М.В. Михайлова: «Я всегда за то, чтобы видеть Млечный путь»
Мария Викторовна Михайлова
доктор филологических наук, профессор филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, академик РАЕН, член Союза писателей Москвы, член Профессионального женского консультативного совета American Biografical Institute, дипломант Международного конкурса филологических, культурологических и киноведческих работ «К 150-летию со дня рождения
А.П. Чехова», лауреат премии имени Владимира Лакшина (2010), автор более 400 печатных работ и Памятной медали «150-летие И.А. Бунина» (2020).
Я всегда говорю: на небе есть Млечный путь. Небо светлое, когда Млечный путь виден ярко, а когда там только звезды, а Млечного пути не видишь, небо не озаряется. Я всегда за то, чтобы изучать Млечный путь.
— Мария Викторовна, Вы всегда много общались с литераторами, писателями, художниками… При этом однажды в интервью журналу «Горький» Вы обронили интересую фразу: «Я всегда была асоциальна, но жутко политизирована». Как Вы понимаете «асоциальность» и в чем в Вашем случае она проявилась?
— Вопрос такой, я бы сказала, интимный, потому что контакты с миром для каждого человека, если он не такой очевидный интроверт, которому безразлично, как и с кем общаться, — это всегда некая проблема. Для меня действительно это было достаточно трудно, потому что я многое переживаю изнутри. При этом я человек, как бы лишенный кожи, потому что я все очень остро и болезненно переношу, и об этом не всегда можно кому-то поведать, рассказать. У меня было довольно сложное детство, сложная юность, круг общения был небольшим, я трудно схожусь с людьми. При этом очень странно: я очень быстро влюбляюсь в человека и начинаю его идеализировать, а это всегда плохо для отношений, потому что человек может это понять и начать вынужденно играть какую-то роль, что становится для него обременительным. Любовь вообще обременительная вещь. И поэтому я понимаю, что не надо мне, наверное, так близко сходиться, я, правда, начинаю очень многого ждать от человека. Так что с социальными контактами мне сложно. У меня всегда было немного друзей. По сути дела, в моей жизни была одна подруга, которая уже ушла из этой жизни, с которой было много пройдено. Но при этом я очень коммуникабельна — я принимаю людей такими, какие они есть. Но, повторю, если я полюблю, я начинаю очень много требовать, так что мне полезнее просто иметь знакомых, приятелей, но не приближать людей, потому что для них это было бы тяжело.
А политизированность — да, надо сказать, она тоже была всегда. Это тоже связано с личными травмами, потому что у меня пострадали предки, дед в тридцать седьмом году, и мною все компоненты, связанные с государственным давлением, определенными решениями, очень остро воспринимались. Тем более что моя бабушка ждала деда и на протяжении всего этого времени, вплоть до пятьдесят шестого года — двадцать с лишним лет — все время прислушивалась к шагам на лестнице и говорила: «Он сейчас войдет». С тех пор у меня такой резонанс вызывают любые политические действия. Отсюда — мой интерес к марксизму. Я была единственным человеком на курсе, который любил историю КПСС. Все страдали безумно, а для меня это был просто упоительный предмет: чем один съезд отличается от другого, как соединяются большевики и меньшевики. Мне это казалось такой авантюрной сюжетикой, такими интересными сплетениями истории, что я все это легко запоминала. И помогло мне, конечно, еще мое замужество. Я была замужем за Михаилом Шатровым — человеком тоже очень политически ориентированным. Может быть, я полюбила его за это и соединилась с ним поэтому. Мы вот в этом плане были очень близки, мне с ним было очень интересно, и он меня, конечно, поднял в плане политического образования.
А политизированность — да, надо сказать, она тоже была всегда. Это тоже связано с личными травмами, потому что у меня пострадали предки, дед в тридцать седьмом году, и мною все компоненты, связанные с государственным давлением, определенными решениями, очень остро воспринимались. Тем более что моя бабушка ждала деда и на протяжении всего этого времени, вплоть до пятьдесят шестого года — двадцать с лишним лет — все время прислушивалась к шагам на лестнице и говорила: «Он сейчас войдет». С тех пор у меня такой резонанс вызывают любые политические действия. Отсюда — мой интерес к марксизму. Я была единственным человеком на курсе, который любил историю КПСС. Все страдали безумно, а для меня это был просто упоительный предмет: чем один съезд отличается от другого, как соединяются большевики и меньшевики. Мне это казалось такой авантюрной сюжетикой, такими интересными сплетениями истории, что я все это легко запоминала. И помогло мне, конечно, еще мое замужество. Я была замужем за Михаилом Шатровым — человеком тоже очень политически ориентированным. Может быть, я полюбила его за это и соединилась с ним поэтому. Мы вот в этом плане были очень близки, мне с ним было очень интересно, и он меня, конечно, поднял в плане политического образования.
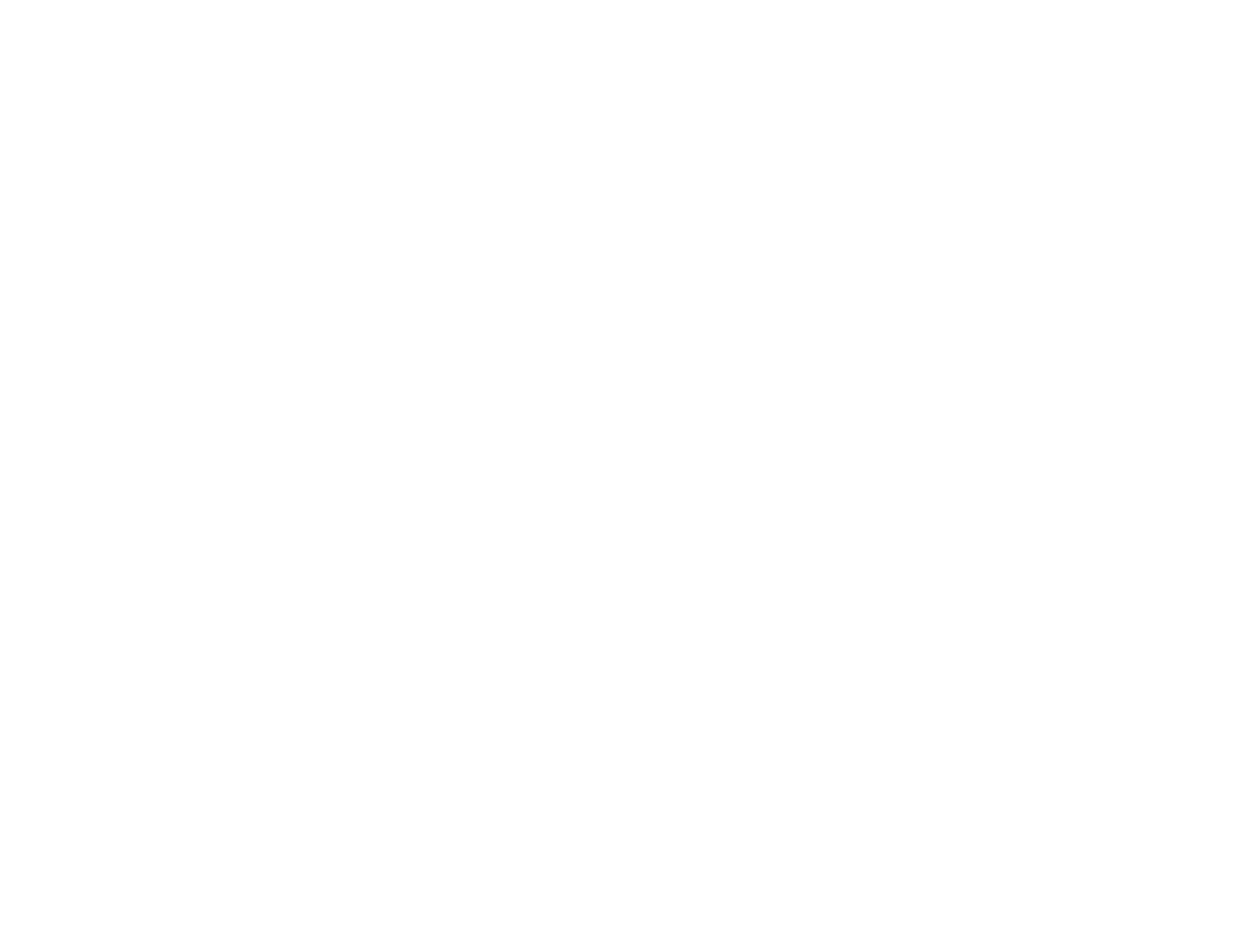
С мужем — драматургом Михаилом Шатровым на фоне афиши его знаменитой постановки на сцене Ленкома «Синие кони на красной траве»
Советский человек — это абсолютный мифолог, придумывавший себе мифы, существовавший в мифах — спасительных мифах.
— Тут у меня, пожалуй, даже такой возникает вопрос: симпатии Ваши, когда Вы изучали съезды, были скорее на чьей стороне? Или тут, наверное, что-то другое?
— Я понимаю, о чем Вы. Нет, я же все-таки дитя советского времени, несмотря на то, какой был, так сказать, бэкграунд семьи. Все равно было ощущение того, что линия на каком-то этапе была верна. Я даже до сих пор считаю, что вынужденность политики Ленина после революции была предопределена, потому что если ты хочешь сохранить власть, то ты должен какое-то время держать все в ежовых руковицах. Другое дело, когда у тебя эта власть уже имеется, то есть я говорю про вторую половину двадцатых и тридцатые годы, а ты пользуешься теми же методами угнетения, вот тогда это становится страшно. А когда это прямое противостояние…
Кроме того, я считаю, что нельзя быть одним богатым, а другим — очень бедным. Когда я смотрела на картины, на прелестных дам в шляпах, я понимала: есть люди, ютящиеся в подвалах, — я про начало ХХ века. И опять же рассказы моей бабушки, которая говорила о том, что у них была кухарка, хотя они были средней руки обеспеченности люди. Бабушка имела голодное детство, потому что мама тратила все на шляпы, а она мечтала о котлете. И вот так она голодная шла в гимназию. При этом они имели кухарку, а у кухарки было трое детей, и кухарка еще собиралась рожать четвертого. И они всех кормили, и всех привечали, и так далее. И вот мое сочувствие людям, которые не имеют возможности хоть что-то иметь, всегда было огромным. Поэтому я все равно на стороне народа, который совершил семнадцатый год, потому что, читая еще Бунина, я понимала, что так было жить невозможно: когда одни с хлыстиками и на балах, а другие — в деревнях и лаптях.
Кроме того, я считаю, что нельзя быть одним богатым, а другим — очень бедным. Когда я смотрела на картины, на прелестных дам в шляпах, я понимала: есть люди, ютящиеся в подвалах, — я про начало ХХ века. И опять же рассказы моей бабушки, которая говорила о том, что у них была кухарка, хотя они были средней руки обеспеченности люди. Бабушка имела голодное детство, потому что мама тратила все на шляпы, а она мечтала о котлете. И вот так она голодная шла в гимназию. При этом они имели кухарку, а у кухарки было трое детей, и кухарка еще собиралась рожать четвертого. И они всех кормили, и всех привечали, и так далее. И вот мое сочувствие людям, которые не имеют возможности хоть что-то иметь, всегда было огромным. Поэтому я все равно на стороне народа, который совершил семнадцатый год, потому что, читая еще Бунина, я понимала, что так было жить невозможно: когда одни с хлыстиками и на балах, а другие — в деревнях и лаптях.
“
Вы знаете, я думаю, что вообще главное в человеке — это научиться жить, научиться соединять быт и бытие — что-то высокое с какими-то реальностями. Мне кажется, это самое высокое искусство, которым немногим дано овладеть.
— Вы сейчас немного напомнили мне случай
М. Цветаевой про шляпки и котлеты. А Вы по-человечески можете понять Цветаеву? Некоторые говорят, что нужно оценивать поэта по его произведениям. Насколько Вы считаете правомерным такой подход к женщине-писателю, к женщине-поэту?
М. Цветаевой про шляпки и котлеты. А Вы по-человечески можете понять Цветаеву? Некоторые говорят, что нужно оценивать поэта по его произведениям. Насколько Вы считаете правомерным такой подход к женщине-писателю, к женщине-поэту?
— У меня к Цветаевой особое отношение — по-человечески я ее, конечно, намного выше ставлю, чем Ахматову, если говорить об этом. Ахматова принадлежит к тому гениальному типу женщин, которые всегда выходили из труднейших ситуаций: она находила людей, которые ее обслуживали, которые ею занимались. Очень тяжелые были у нее этапы, периоды — невероятные, но ей удавалось выживать. А Цветаевой — нет! Цветаева то колет дрова, то стирает пеленки. При этом она действительно этого делать не могла, потому что она все время внутри себя писала стихи. Поэтому для нее запах рыбы, о чем она писала в письмах к Тесковой, невыносим, а ей нужно эту рыбу чистить.
Мне Цветаеву безумно жалко по-человечески, потому что такой человек был не способен приноровиться к жизни. Вот Ахматова всегда могла приспособиться — в этом ее гениальность женская. Марина Цветаева абсолютно не гениальная женщина, потому что с любовью у нее все не так, с детьми все не так, с бытом все не так. Все у нее не получалось, кроме поэзии. Вот что сделать с этим? Неумение жить. Вы знаете, я думаю, что вообще главное в человеке — это научиться жить, научиться соединять быт и бытие — что-то высокое с какими-то реальностями. Мне кажется, это самое высокое искусство, которым немногим дано овладеть. Мне оно не очень дано: я все делаю с напряжением, мне все всегда очень трудно — я все время преодолеваю себя. А Ахматовой не надо было. Она обладала обаянием, которым не обладала Цветаева. Цветаева отторгала всех, а Ахматова всех привлекала. Понимаете? Ну, вот бывает так. Такое дано.
Мне Цветаеву безумно жалко по-человечески, потому что такой человек был не способен приноровиться к жизни. Вот Ахматова всегда могла приспособиться — в этом ее гениальность женская. Марина Цветаева абсолютно не гениальная женщина, потому что с любовью у нее все не так, с детьми все не так, с бытом все не так. Все у нее не получалось, кроме поэзии. Вот что сделать с этим? Неумение жить. Вы знаете, я думаю, что вообще главное в человеке — это научиться жить, научиться соединять быт и бытие — что-то высокое с какими-то реальностями. Мне кажется, это самое высокое искусство, которым немногим дано овладеть. Мне оно не очень дано: я все делаю с напряжением, мне все всегда очень трудно — я все время преодолеваю себя. А Ахматовой не надо было. Она обладала обаянием, которым не обладала Цветаева. Цветаева отторгала всех, а Ахматова всех привлекала. Понимаете? Ну, вот бывает так. Такое дано.
“
К женщине намного больше претензий, правда. Посмотрите — в соцсетях Цветаеву же бесконечно гнобят за ее Ирину. Ей дочку простить не могут. Хотя никто не понимает, что это просто случайность: она сумела спасти вторую дочку.
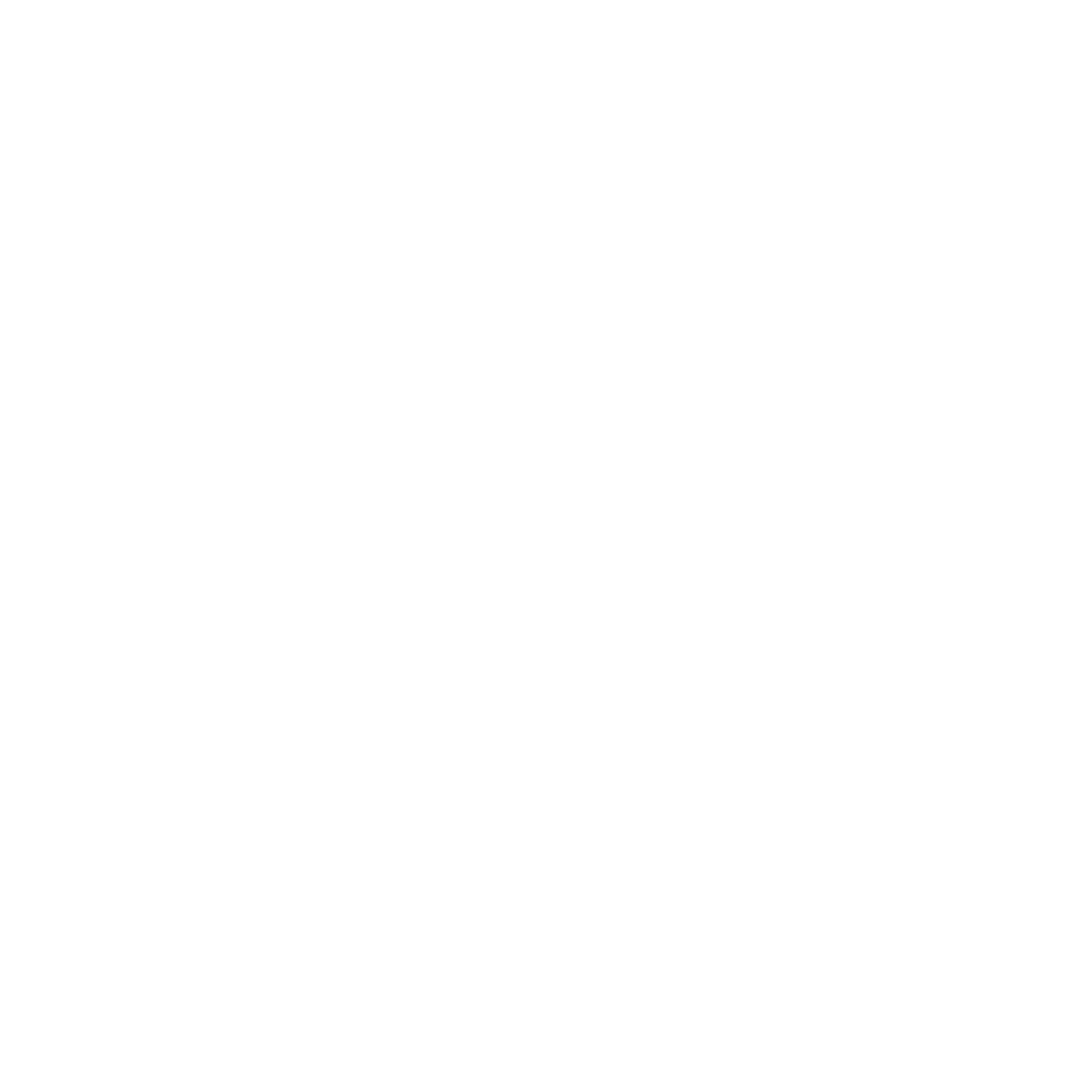
На обсуждении фильма в киноклубе «Экран-1»
(1970-е годы)
(1970-е годы)
— Некоторые бы сейчас сказали, что просто от женщины чаще всего многого требуют: и бытовой приспособленности, и творчества. А мужчине в этом плане легче: если он пишет, то обязательно найдет подругу поэта.
— В этом плане, к сожалению, есть социальные роли: женщине какой надо быть? Нужно быть хорошей любовницей, хорошей женой, хорошей матерью. И при этом нужно еще хорошо работать. А еще хорошо бы быть хорошей подругой, и еще неплохо, чтобы она была неплохой соседкой. Масса этих миссий. От мужчины никто этого требовать не будет: никто не требует, чтобы он был хорошим другом, хорошим отцом, хорошим любовником, хорошим мужем, хорошим товарищем… хорошим доцентом. И так далее, и так далее. Достаточно, если он будет хорошим работником — вполне этого будет достаточно. Если хороший отец, то тоже миссия его будет выполнена. К женщине намного больше претензий, правда. Посмотрите — в соцсетях Цветаеву же бесконечно гнобят за ее Ирину. Ей дочку простить не могут. Хотя никто не понимает, что это просто случайность: она сумела спасти вторую дочку. Они обе могли совершенно точно погибнуть: она отдавала, надеясь, что государство будет хоть что-то им давать. Можно ее упрекать за то, что она не могла готовить, не могла чистить картошку. Да, чистила картошку плохо. Поэтому она правильно сделала, что отдала детей — она отдала в лучшее место, но ужас, холодина, голод. Ребенок не выдержал. Вообще некоторым женщинам, конечно, иногда детей не надо иметь, не предназначены они. Миссия матери очень трудная. Соединять это с работой, соединять с человеческим потенциалом — очень сложно.
Да нет, я думаю, что советские женщины были плохими хозяйками в большинстве своем, потому что это было, честно говоря, довольно презираемое дело
— Вы довольно откровенны в соцсетях: к примеру, ведете фэйсбук, где в том числе пишете о своей личной жизни. Сейчас, когда многие Ваши коллеги боятся быть неправильно понятыми и даже не заводят личные аккаунты, это особенно выбивается из общего тренда. В связи с этим назрел такой вопрос: как Вы воспринимаете соцсети? Являются ли они для Вас разновидностью личного дневника, или это какая-то принципиально иная форма высказывания? И как Вы думаете, меняется ли восприятие личного пространства у современного человека?
— Интересный вопрос, потому что социальные сети, я думаю, принципиально изменили нашу жизнь. Сегодня человеку легче существовать, потому что он всегда может что-то высказать — пусть это некоторая придуманность или какое-то моделирование своей личности. Конечно, я не высказываю там подлинно личное. Я в основном обыгрываю какие-то ситуации, и социальная сеть для меня — это та сфера, в которой я не очень реализована в жизни, потому что я довольно ироничный человек: люблю посмеяться над какими-то ситуациями, люблю перевернуть их... И там это удается, там я реализую ту часть, которая в реальной жизни оказывается невостребованной. Я не могу об этом писать в статьях: я не пишу ироничных статей. Так что для меня это платформа, на которой часть моей личности, которая не реализована и не востребована, оказывается нужна.
Но кроме того, это, конечно, попытка преодоления изолированности, которая с возрастом возникает. Одно дело — молодое общение, более живое и многообразное, а те социальные сети, в которых я, — это какие-то довольно серьезные проблемы. У меня большое количество единомышленников, в которых я или нахожу подтверждение своим представлениям, или могу поспорить, подискутировать. Это тот редкий случай, когда ты можешь найти адекватное восприятие: мы очень лишены этого адекватного восприятия, особенно сейчас, когда могут неправильно понять. А там все-таки твой круг друзей. А те, кто меня не понимает, не входят в этот круг. Я не знаю, какой моделируется в итоге мой образ — наверное, какой-то образ возникает в любом случае. Он, конечно, не полноценен, не объемен, но какой-то сформировался. И этот образ устраивает моих знакомых: они эту линию во мне чувствуют, поддерживают, воспринимают. А я им этим и интересна. И они мне этим интересны.
Но кроме того, это, конечно, попытка преодоления изолированности, которая с возрастом возникает. Одно дело — молодое общение, более живое и многообразное, а те социальные сети, в которых я, — это какие-то довольно серьезные проблемы. У меня большое количество единомышленников, в которых я или нахожу подтверждение своим представлениям, или могу поспорить, подискутировать. Это тот редкий случай, когда ты можешь найти адекватное восприятие: мы очень лишены этого адекватного восприятия, особенно сейчас, когда могут неправильно понять. А там все-таки твой круг друзей. А те, кто меня не понимает, не входят в этот круг. Я не знаю, какой моделируется в итоге мой образ — наверное, какой-то образ возникает в любом случае. Он, конечно, не полноценен, не объемен, но какой-то сформировался. И этот образ устраивает моих знакомых: они эту линию во мне чувствуют, поддерживают, воспринимают. А я им этим и интересна. И они мне этим интересны.
— Вы вот так активно занимаетесь женской прозой, а сами никогда не хотели ничего написать? Или у Вас были какие-то попытки? Почему Вы думаете, что Ваша ироничность не могла бы воплотиться в прозе?
— Вы знаете, я настолько люблю литературу, стольких знаю писателей… Я ведь очень робкий человек. И вообще в течение, наверное, двадцати лет я занималась преодолением себя. Я пошла в киноклуб, чтобы там научиться говорить. Мне все время нужно было преодолевать свою закомплексованность. Поэтому мысль о том, что я могу что-то написать, может быть, какого-то хорошего уровня, просто никогда мне не приходила в голову. Образцы, даже не очень хорошего качества, мне все равно кажутся такими высокими, что я не могу до них дотянуться. Я вела дневник очень долго — лет тридцать. Такой подробный, разный. Сейчас моя знакомая помогает его оцифровать, я читаю его и поражаюсь, поскольку абсолютно незнакомый человек заполнял эти страницы. Очень полезно вести дневник, потому что ты настолько меняешься, твое восприятие мира так трансформируется, твой способ общения становится настолько иным со временем, что ты себя не узнаешь. Я читаю, и даже странно мне: неужели это была я, я это слышала, слушала, говорила…
А «литературное» писать не могу — мне страшно, просто страшно. Я думаю, во мне есть критическое дарование. Если говорить о какой-то одаренности, я одарена как критик. У меня очень хорошие всегда получались критические работы: рецензии, отзывы. И по кино: я же кино очень много занималась. И по литературе. У меня есть чувствительный аппарат, я улавливаю какие-то вещи, могу это выразить — и довольно эффектно, интересно. Во мне есть эмпатия по отношению к литературному тексту. Просто считаю, что сейчас критики как таковой нет, есть абсолютный разнобой. Я очень люблю критику и очень люблю ее разбирать: мне нравится прикасаться к другим мыслям, к другому сознанию — общаться с Другим. Мне это интересно, может быть, даже больше, чем общаться с собой. С собой мне иногда скучновато, это правда. Поэтому я как критик могла бы реализоваться, если бы не была преподавателем, исследователем. Это, конечно, было бы мое, критика — мое поле.
А «литературное» писать не могу — мне страшно, просто страшно. Я думаю, во мне есть критическое дарование. Если говорить о какой-то одаренности, я одарена как критик. У меня очень хорошие всегда получались критические работы: рецензии, отзывы. И по кино: я же кино очень много занималась. И по литературе. У меня есть чувствительный аппарат, я улавливаю какие-то вещи, могу это выразить — и довольно эффектно, интересно. Во мне есть эмпатия по отношению к литературному тексту. Просто считаю, что сейчас критики как таковой нет, есть абсолютный разнобой. Я очень люблю критику и очень люблю ее разбирать: мне нравится прикасаться к другим мыслям, к другому сознанию — общаться с Другим. Мне это интересно, может быть, даже больше, чем общаться с собой. С собой мне иногда скучновато, это правда. Поэтому я как критик могла бы реализоваться, если бы не была преподавателем, исследователем. Это, конечно, было бы мое, критика — мое поле.
— Но Вы и как преподаватель активно реализовываетесь…
— Да, я много и долго преподаю. Пятьдесят лет уже…
— Но для этого, наверное, нужна большая одаренность?
— Не знаю. Я вообще считаю, искренно говорю, что быть преподавателем — это самое трудное. Это намного труднее, чем писать научную работу, труднее, чем быть критиком — там ты можешь опираться на свою интуицию, эмоциональность, в исследовании ты можешь апеллировать к своим каким-то фантазийным, гипотетическим представлениям, а в преподавании ты должен быть всем. Преподаватель должен быть интересен, занимателен, глубок, последователен, логичен. Он должен влиять в плане воспитания на свою аудиторию, он должен уметь подчинять, при этом он должен быть очень деликатным, должен уметь слушать — то есть преподаватель, я имею в виду хороший, должен быть просто всем.
— Но для этого, наверное, нужна большая одаренность?
— Не знаю. Я вообще считаю, искренно говорю, что быть преподавателем — это самое трудное. Это намного труднее, чем писать научную работу, труднее, чем быть критиком — там ты можешь опираться на свою интуицию, эмоциональность, в исследовании ты можешь апеллировать к своим каким-то фантазийным, гипотетическим представлениям, а в преподавании ты должен быть всем. Преподаватель должен быть интересен, занимателен, глубок, последователен, логичен. Он должен влиять в плане воспитания на свою аудиторию, он должен уметь подчинять, при этом он должен быть очень деликатным, должен уметь слушать — то есть преподаватель, я имею в виду хороший, должен быть просто всем.
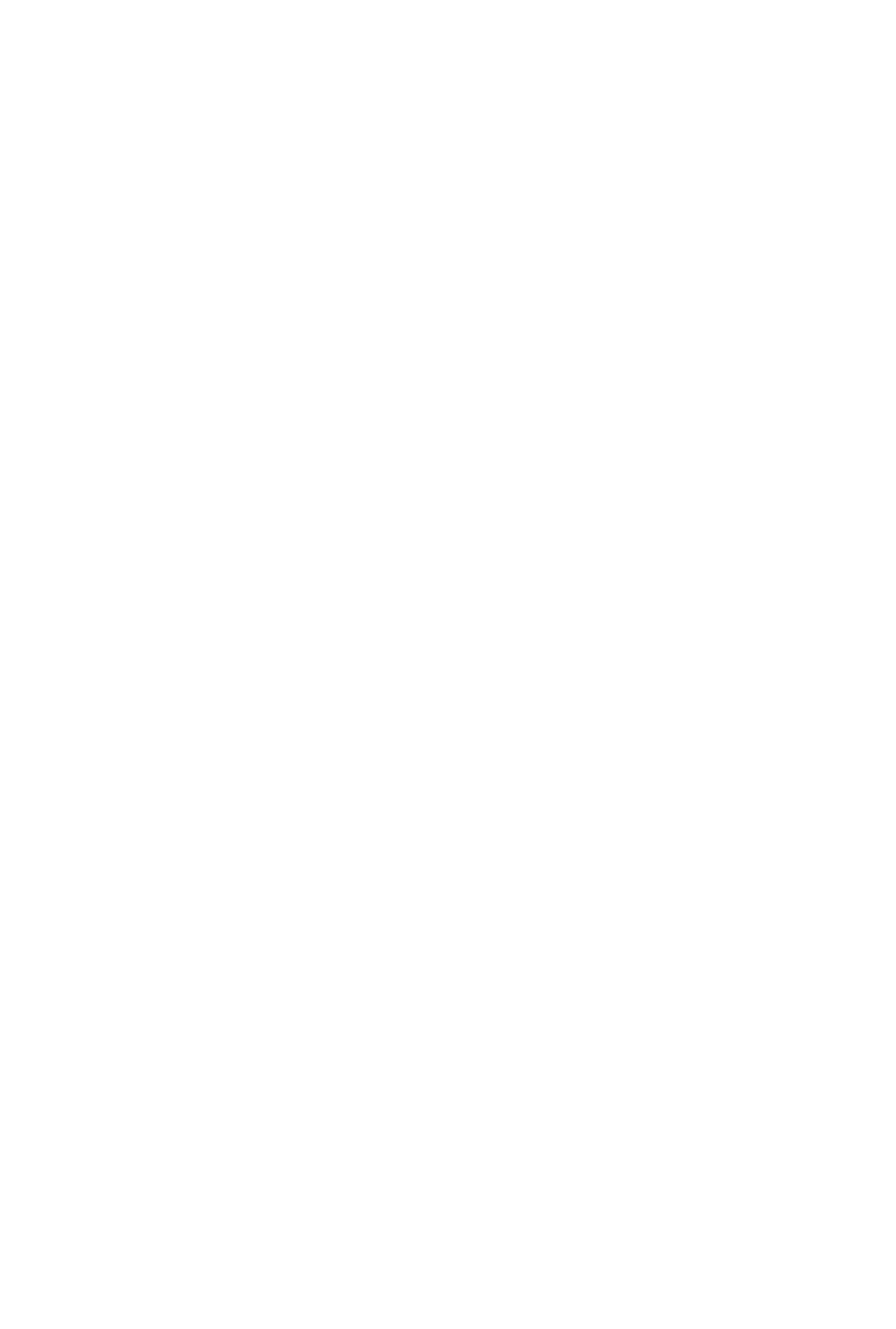
Уже опытный преподаватель. За плечами 20 лет работы
— Но сейчас в обществе часто идут разговоры о том, что преподаватель не должен заниматься воспитанием — воспитанием должны заниматься дома, а преподаватель должен только давать знания, на этом его функции исчерпываются.
— Ты не можешь давать просто набор знаний, потому что есть учебник. Учебник четче расскажет, что нужно знать. Мне кажется, огромную роль играет личность преподавателя. Это не значит, что я какая-то особая личность и что потому я хорошо влияю. Может быть, я плохо влияю? Личность в любом случае очень важна. Когда студенты или ученики видят, что ты поглощен какой-то деятельностью, и она тебя захватывает, это очень и привлекает, и подчиняет по-своему, и настраивает ученика на то, что есть какие-то высшие ценности, которые более значимы, чем твое ежедневное мельтешение по жизни. Мне кажется, что преподаватель должен нести свою миссию. Вот преподавание для меня — это как литература, как актерство. Оно показывает, что есть иная реальность, которая более важна, чем все то, что происходит рядом. Тогда эта реальность и будет делать тебя человеком в твоем постоянном, ежедневном обиходе. И ты тут будешь — на той высоте, на которой в принципе должен быть человек. Хотя на ней очень трудно находиться. Поэтому я к преподаванию отношусь очень строго: если мне какие-то мои статьи нравятся, а у меня есть все-таки среди многих статей несколько, которые мне реально нравятся, то мне почти никогда не нравится то, как я читаю лекции или веду занятия. Это редчайший случай. Один раз, мне кажется, я занудила, слишком все было последовательным, в другой раз меня все время несло куда-то в сторону. Понимаете, я все время всегда всем недовольна — это кошмар, поэтому я даже считаю, что неправильно выбрала стезю преподавания, я так намучилась, что ужас. Нельзя быть все время недовольной, нужно быть когда-то и довольной собой.
— Я думаю, многие Ваши студенты с Вами бы не согласились.
— Трудно сказать. Я никогда не знаю, что надо на самом деле — может быть, надо рассказывать интересно, может быть, надо рассказывать очень умно, может, надо рассказывать очень теоретично. Нет рецепта.
— Всем же не угодишь...
— Это правда. Вот я только этим себя и утешаю — всем не угодишь. У меня всегда были люди, которые слушали меня, открыв рот, а были люди, которым, наверное, казалось, что я слишком эмоционально себя веду, слишком пытаюсь завлечь, привлечь. Иногда какие-то шуточки отпускаю. Я всегда интересовалась у других преподавателей тем, как они преподают. Я слушала лекции Кормилова, Либана. Я пыталась научиться, перенять опыт. Плодотворно или неплодотворно получалось — трудно сказать.
— Всем же не угодишь...
— Это правда. Вот я только этим себя и утешаю — всем не угодишь. У меня всегда были люди, которые слушали меня, открыв рот, а были люди, которым, наверное, казалось, что я слишком эмоционально себя веду, слишком пытаюсь завлечь, привлечь. Иногда какие-то шуточки отпускаю. Я всегда интересовалась у других преподавателей тем, как они преподают. Я слушала лекции Кормилова, Либана. Я пыталась научиться, перенять опыт. Плодотворно или неплодотворно получалось — трудно сказать.
— Но вот в образовании сейчас бывают нестандартные случаи. Представьте, что к Вам на пару по марксистской критике пришел 9-летний студент. Как бы Вы на это отреагировали, учитывая, что такое уже в принципе возможно? И как Вы думаете, какие трудности могут испытывать университет и студент в подобной ситуации?
— Я считаю, что это не очень приятная для МГУ история. Я понимаю, на что Вы опираетесь, что, может быть, будут прецеденты и в дальнейшем. Это как раз тот случай, когда этот юный студент, которого, может быть, направили родители, пришел получать в чистом виде знания: он хочет, чтобы в его голову была вложена определенная информация. Я же считаю очень важным, во-первых, давать студенту возможность дискутировать и опровергать меня. Очень люблю, когда меня опровергают. Я все время провокационно задаю какие-то вопросы — особенно, когда я преподаю в Высшей школе телевидения. Эти студенты — творческие люди. Я им все время даю задания и говорю: «Это произведение мне не нравится, я считаю, что оно скучное. Попробуйте меня опровергнуть, вдруг оно вам понравится». Но с совсем юным студентом это не получится, потому что у него нет иной точки зрения — когда тебе девять лет, ты очень подвержен авторитетам, и это, конечно, катастрофическая ситуация. Сама знаю по себе: я же была всегда очень хорошей ученицей, вечной отличницей — это тоже кошмарная стезя. Это плохо, по-своему плохо, потому что тебе очень трудно выскочить за пределы авторитетов, все время кажется, что все говорят правильные вещи, которым нужно следовать. Ты забываешь о собственном потенциале. Так что, круглые отличники — это не всегда хорошо. Поэтому с юными студентами будет очень трудно — они от тебя будут ждать всегда просто набора знаний. Но я не могу давать только набор знаний, потому что все учебники дают его. Я могу дать возможность сравнить разные версии и выработать свою. Вот сегодня я разбирала на семинаре научное предисловие к одному изданию и показывала, как много можно извлечь, дискутируя с какими-то положениями — даже умными и, возможно, правильными: «ну, давайте посмотрим, а вдруг это не так». Мне кажется очень важным будить в юном сознании, незакостенелом, как мы уже все, что-то, чтобы оно прорезывалось. Единственное мое требование — не на голом энтузиазме, а чтобы все было на фундаменте, чтобы мне доказали, и это было не просто мнение, не просто «мне кажется, что это хорошо или что это плохо», а чтобы это было доказано. Я могу не согласиться с доказательством, но система доказательств должна быть.
— То есть чтобы была аргументация?
— Ну конечно! На уровне «мне нравится» — это разговор бабы Люси и бабы Мани на скамеечке перед моим подъездом: да, им нравится этот сериал, но почему нравится — они не могут объяснить. Красивая там играет актриса… Но меня это не устроит, мне надо по-другому.
— Некоторые говорят, что если читаешь литературу и ты уже филолог, то очень сложно получать от нее удовольствие. А Вы получаете до сих пор наслаждение от литературы?
— Я настолько люблю литературу, что мечтаю, когда меня выгонят из Университета, наконец-то проснуться, протянуть руку к какой-то книжке — не к той, которую нужно читать, а к любой — вот видите, что лежит у моей постели? Это все то, что я бы хотела прочитать. И мечтаю открыть в постели еще до завтрака книгу, углубиться — не потому что нужно готовиться к следующему занятию, а потому что я хочу это прочесть. Литература для меня — это род наркотика, я ничего не могу сделать. Если я иду по улице и вижу книжный магазин, я отворачиваюсь, чтобы не соблазниться. И все равно — соблазняюсь. Это точно. (смеется)
— Ну конечно! На уровне «мне нравится» — это разговор бабы Люси и бабы Мани на скамеечке перед моим подъездом: да, им нравится этот сериал, но почему нравится — они не могут объяснить. Красивая там играет актриса… Но меня это не устроит, мне надо по-другому.
— Некоторые говорят, что если читаешь литературу и ты уже филолог, то очень сложно получать от нее удовольствие. А Вы получаете до сих пор наслаждение от литературы?
— Я настолько люблю литературу, что мечтаю, когда меня выгонят из Университета, наконец-то проснуться, протянуть руку к какой-то книжке — не к той, которую нужно читать, а к любой — вот видите, что лежит у моей постели? Это все то, что я бы хотела прочитать. И мечтаю открыть в постели еще до завтрака книгу, углубиться — не потому что нужно готовиться к следующему занятию, а потому что я хочу это прочесть. Литература для меня — это род наркотика, я ничего не могу сделать. Если я иду по улице и вижу книжный магазин, я отворачиваюсь, чтобы не соблазниться. И все равно — соблазняюсь. Это точно. (смеется)
Я говорила о том, что если филолог готов, что на него упадет книжный шкаф, тогда это настоящий филолог
— Избави нас от искушения…
— Да. Для меня это жуткое искушение. А есть еще одна квартира моей мамы в этом доме, куда я Вас не могу позвать, потому что она вся в книгах. Когда я только стала преподавателем и еще не было электронных книг, я начинала свои лекции по критике и по истории литературы с разговора, очень печального, о том, как умер Венгеров — крупный очень литературовед. В двадцатом году он погиб. На него упали книжные шкафы в Пушкинском Доме. Я говорила о том, что если филолог готов, что на него упадет книжный шкаф, тогда это настоящий филолог. Сейчас легче, сейчас есть электронные книги, и нет необходимости в таком количестве, но могу сказать, что я не очень люблю такой формат, потому что я испытываю наслаждение от карандашика на полях. Люблю написать «sic!», «Nota Bene», отчеркнуть что-то — только карандашиком, ни в коем случае не ручкой, — вернуться к этой страничке и подумать, заглянуть, может быть, вперед, если кажется скучным… Для меня вообще скучных книг практически не бывает, я недавно читала скучнейший женский роман — тошнотворный просто — и то я его читала с таким удовольствием, я понимала, как ковыряется эта авторесса в своих ощущениях, как она пытается их передать, я видела ее усилия, как она прямо хочет до меня донести свои переживания. Что она видела, то и пела, но все равно для меня это было очень интересно.
— Вы только сегодня говорили, что не очень принимаете феминитивы.
— Да, но я сейчас шутя произнесла «авторесса». На самом деле я терпеть не могу эти слова: «авторки», «режиссерки», очень спорю с моими коллегами, которые к этому относятся спокойно. Вот есть Маша Нестеренко, она сейчас, по-моему, какую-то книгу рекламирует в Фейсбуке, очень умная женщина. И написала опять «авторка», «режиссерка». Для меня это просто, честно говоря, ужасно звучит, как-то даже глупо. Потому что это не то поле, на котором надо вести борьбу. Есть такие глобальные проблемы — женские, чудовищные, вот о них надо думать, а «авторка»-«автор», «поэтесса»-«поэт» — ну, не о том речь…
— Люди считают, что это идет от языка и что если сейчас это внедрить, то через 20 лет общество будет готово к тому…
— Через двадцать лет общество будет непонятным. Меня интересуют еще проблемы экологии, я помешана на них. Поэтому на то, что будет с обществом через двадцать лет, учитывая экологические проблемы, у меня пессимистический взгляд. Хотя, возвращаясь к теме феминитивов, я считаю, что напрасно убрали понятие «учительница».
— Разве его убрали?
— Да-да, сейчас же только «учитель». Ну, там есть какой-то набор, который ты можешь употреблять. Мне кажется, что в каких-то вариантах «учительница» вполне возможна.
— Некоторые считают, что «директорша» и «библиотекарша» — это что-то немного снисходительное.
— Ну, это по аналогии с «профессоршей», которая жена профессора. Русский язык же не регламентирован в этом плане, все равно этот суффикс имеет разные значения и может обозначать женский род в профессии тоже. Это то, что устоялось и существовало.
— Да, но я сейчас шутя произнесла «авторесса». На самом деле я терпеть не могу эти слова: «авторки», «режиссерки», очень спорю с моими коллегами, которые к этому относятся спокойно. Вот есть Маша Нестеренко, она сейчас, по-моему, какую-то книгу рекламирует в Фейсбуке, очень умная женщина. И написала опять «авторка», «режиссерка». Для меня это просто, честно говоря, ужасно звучит, как-то даже глупо. Потому что это не то поле, на котором надо вести борьбу. Есть такие глобальные проблемы — женские, чудовищные, вот о них надо думать, а «авторка»-«автор», «поэтесса»-«поэт» — ну, не о том речь…
— Люди считают, что это идет от языка и что если сейчас это внедрить, то через 20 лет общество будет готово к тому…
— Через двадцать лет общество будет непонятным. Меня интересуют еще проблемы экологии, я помешана на них. Поэтому на то, что будет с обществом через двадцать лет, учитывая экологические проблемы, у меня пессимистический взгляд. Хотя, возвращаясь к теме феминитивов, я считаю, что напрасно убрали понятие «учительница».
— Разве его убрали?
— Да-да, сейчас же только «учитель». Ну, там есть какой-то набор, который ты можешь употреблять. Мне кажется, что в каких-то вариантах «учительница» вполне возможна.
— Некоторые считают, что «директорша» и «библиотекарша» — это что-то немного снисходительное.
— Ну, это по аналогии с «профессоршей», которая жена профессора. Русский язык же не регламентирован в этом плане, все равно этот суффикс имеет разные значения и может обозначать женский род в профессии тоже. Это то, что устоялось и существовало.
“
Есть такие глобальные проблемы — женские, чудовищные, вот о них надо думать, а «авторка»-«автор», «поэтесса»-«поэт» — не о том речь…
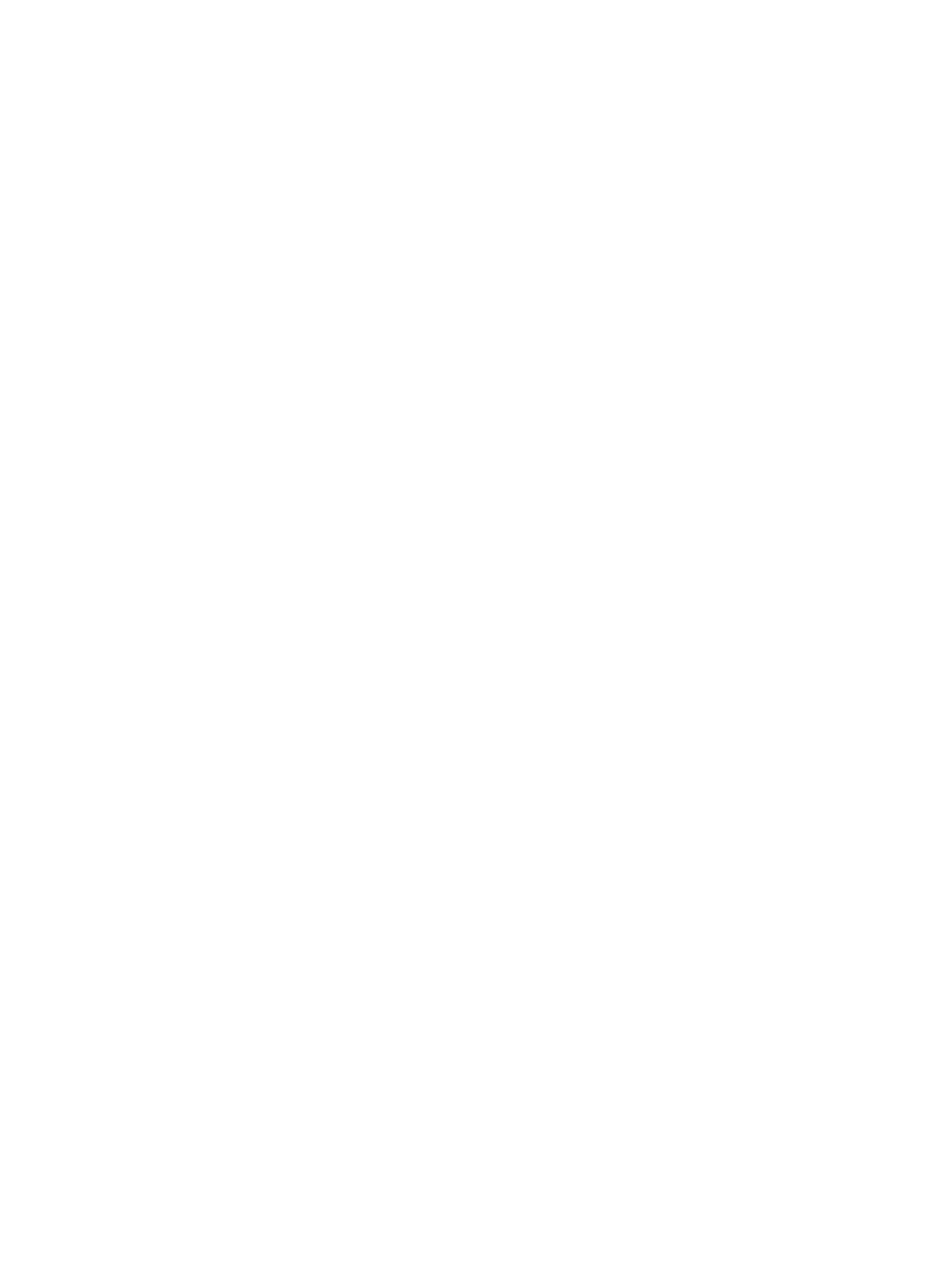
Еще одна страсть помимо литературы — путешествия
— Сейчас у нас в пандемию, когда закрылись границы и люди стали меньше путешествовать, у филологов практически исчезли поводы для «научного туризма», когда специалисты едут в другую страну не столько выступить на конференции, сколько посмотреть достопримечательности и прогуляться по новому городу. А есть ли у Вас излюбленные университеты за пределами России, куда Вы любите ездить?
— Конечно, когда я ездила и выступала, были любимые места. Во-первых, это была для меня тренировка публичного выступления, я очень долго боялась, трепетала. Я люблю, любила новые места, у меня есть жадность до впечатлений. Когда я приезжала в какой-то город, я его пешком исхаживала: например, Берлин, довольно большой город, я исходила просто пешком. Поскольку еще очень люблю архитектуру, архитектурные стили, особенно модерн, я отыскивала какие-то невероятные закоулки и все запечатлевала. Я же еще фотографировала в свое время хорошо, причем самые лучшие мои фотографии — это фотографии именно городского пространства.
Я мечтала обладать тремя вещами: я хотела научиться танцевать аргентинское танго, выйти замуж за поляка и овладеть в совершенстве английским.
— Урбанистические такие пейзажи, да?
— Да. Я когда-то сделала фотографии Астрахани, которые показала астраханцам. И они меня спросили: «Ой, а что это у Вас за город?» Я говорю: «Да это ваша Астрахань...» Я правду говорю, потому что это у меня получалось. Конечно, у меня есть очень смешной вариант — я мечтала обладать тремя вещами: я хотела научиться танцевать аргентинское танго, выйти замуж за поляка и овладеть в совершенстве английским. Ничего у меня не получилось… Но Польшу я просто безумно люблю, обожаю Варшавский, Краковский университеты. Я просто пьянею от польского языка, который сама выучила. Магия Варшавы, магия Плоцка — такой маленький город, где все абсолютно модерн. Вроцлав люблю, хотя это был в прошлом немецкий город, но все равно. Очень мне нравится Берлин. Недавно я открыла для себя Гренобль, я никогда не думала о такой его очаровательности. Это, правда, очень привлекательный, продуманный западный университет. А какие там библиотеки, Боже! А я же просто с ума схожу при соприкосновении с библиотеками: когда попадаю в библиотеку, сначала падаю в обморок, потом прихожу в себя и подхожу к полкам.
— Но вот вопрос такой напрашивается: Вы говорите о привлекательности западных университетов, а могут ли они что-то дать сейчас в области филологии молодому специалисту? Сейчас есть люди, которые говорят, что отечественная филология их не устраивает и они ищут герменевтический подход или думают о синтезе искусств.
— Могу честно сказать: у меня давно были, еще между советским временем и перестройкой, стажеры из Америки. Я поражалась узости их образования, меня это просто шокировало. По сравнению с ними наше университетское образование было шире. Наш университет давал фундаментальное образование, широкую эрудицию. Американцы очень глубоко знали свою узкую тему — например, Комедию дель Арте в творчестве Блока, ее традиции. Потрясающе все знали, больше чем я, естественно. Но шаг влево, шаг вправо…А сейчас наоборот. Новые подходы: деконструктивные, постструктуралистские, культурологические, антропологические. Они очень сильно размывают саму филологию, она утрачивается как таковая, из текста можно сделать лепешку, можно сделать пирог, оладушек — все что хочешь. А насколько ты сможешь ощутить это как филолог в плане авторской позиции? Авторская позиция ведь очень важна — интенция, соотношение слова и продукта. Кроме того, меня очень интересует рецепция восприятия читателя, потому что читатель также важен, мы же все понимаем по-разному текст. Но, конечно, есть очень интересные подходы. Просто они громоздятся — один на другой, и они усложняют и уводят далеко от самой литературы, на мой взгляд.
— То есть сейчас больше интерпретаций, чем самого текста?
— Ну да. Интерпретация почти бесконечна, при желании из текста можно извлечь практически все, что угодно, можно предложить любое его прочтение. А мне всегда интересно, что хотел все-таки сказать автор. А потом — что вычитываете вы. Когда я завожу в Школе телевидения разговоры о каких-то произведениях, мне очень интересно это молодое, живое восприятие. Но при этом мне очень интересно, как они считают, что хотел-то автор сказать. Вот на этом скрещении, мне кажется, рождается что-то полезное.
— Да, это, пожалуй, сложная проблема.
— Конечно, сложная… но то, что филология немножко умирает, я думаю, правда. Как наука, к сожалению, она немного себя не то что исчерпывает… Но мало уже тех, кто может заниматься наукой — ковырянием в самом тексте.
— Потому что люди изменились?
— Этого я не могу сказать. Думаю, что она просто не востребована обществом. Мне кажется, что в целом в мировом сообществе гуманитарные науки не востребованы, к ним возникает недоверие. Они слишком ориентированы на человека, который неуправляем, а общество развивается в плане управляемости человеком. Человеком надо манипулировать, тогда хоть что-то может будто бы состояться. По крайней мере, так мыслят правители практически всех стран. Поэтому гуманитарное поле просто не востребовано. Это в принципе такое самоудовлетворение. Ты занимаешься тем, что удовлетворяет тебя, а насколько это нужно в целом — не очень понятно, к сожалению. Филология все более отдаляется от потребностей реальной жизни. Раньше была критика, толстые журналы, люди читали. Чтение изменилось, мы перестали быть литературоцентричной страной, а на Западе это всегда было достаточно элитарным занятием. Западный человек — в целом нечитающий человек, и мы тоже постепенно превращаемся в нацию, которой это не очень нужно. Так что у меня такое впечатление, достаточно пессимистичное. Но тот, кто этим занимается, конечно, получает массу удовольствия.
— Ну да. Интерпретация почти бесконечна, при желании из текста можно извлечь практически все, что угодно, можно предложить любое его прочтение. А мне всегда интересно, что хотел все-таки сказать автор. А потом — что вычитываете вы. Когда я завожу в Школе телевидения разговоры о каких-то произведениях, мне очень интересно это молодое, живое восприятие. Но при этом мне очень интересно, как они считают, что хотел-то автор сказать. Вот на этом скрещении, мне кажется, рождается что-то полезное.
— Да, это, пожалуй, сложная проблема.
— Конечно, сложная… но то, что филология немножко умирает, я думаю, правда. Как наука, к сожалению, она немного себя не то что исчерпывает… Но мало уже тех, кто может заниматься наукой — ковырянием в самом тексте.
— Потому что люди изменились?
— Этого я не могу сказать. Думаю, что она просто не востребована обществом. Мне кажется, что в целом в мировом сообществе гуманитарные науки не востребованы, к ним возникает недоверие. Они слишком ориентированы на человека, который неуправляем, а общество развивается в плане управляемости человеком. Человеком надо манипулировать, тогда хоть что-то может будто бы состояться. По крайней мере, так мыслят правители практически всех стран. Поэтому гуманитарное поле просто не востребовано. Это в принципе такое самоудовлетворение. Ты занимаешься тем, что удовлетворяет тебя, а насколько это нужно в целом — не очень понятно, к сожалению. Филология все более отдаляется от потребностей реальной жизни. Раньше была критика, толстые журналы, люди читали. Чтение изменилось, мы перестали быть литературоцентричной страной, а на Западе это всегда было достаточно элитарным занятием. Западный человек — в целом нечитающий человек, и мы тоже постепенно превращаемся в нацию, которой это не очень нужно. Так что у меня такое впечатление, достаточно пессимистичное. Но тот, кто этим занимается, конечно, получает массу удовольствия.
— Как говорил Дали: «Я люблю искусство, хотя оно совершенно бесполезно. Может быть, поэтому я его и люблю».
— Да-да, люди обходятся и без него. Мне всегда, знаете, был интересен пример Агафьи Лыковой: я всегда за ней смотрю, за их семьей. Они не украсили ни одного горшка — ни одной резьбой. То есть они вообще прожили всю жизнь, уйдя в тайгу в тридцатые годы, без желания хоть сколько-нибудь украсить свой быт. Никто из них ничего не вышил, ни сплел… Да, у них есть церковные книги, может быть, они были полностью погружены в религиозное сознание, и оно компенсировало желание красоты — то есть искусства. Но для меня этот пример означает, что человек вполне может обходиться без прекрасного, без искусства и при этом прекрасно выживать.
— Насколько ему хорошо, мы, наверное, все-таки не знаем. Не у всех есть такие потребности.
— Не у всех. Вот я и говорю, что в принципе небольшому количеству людей нужен обмен с иной реальностью — с чем-то иным, с тем, что не соприкасается с твоим ежедневным бытом — в широком плане, с бытием даже. А кроме того, важен вопрос, как воспринимают литературу. Сегодня же правда очень трудно дать понять молодому человеку, чем ценна литература XIX века. Это правда непросто — рассказать современной девушке все переживания Наташи Ростовой: сначала одно, потом другое, потом она сидит, поджав коленки. Может быть, несколько романтических барышень это воспримут соответствующим образом, но большинство скажет: «Ну да, девушка та еще, конечно…» Так что трудно, правда трудно. К сожалению, немного устаревает литература, она имеет тенденцию отдаляться от нас. Я не имею в виду тех, кто эстетически ориентирован, кто воспринимает литературу как прекрасную игру, в которую ты вовлекаешься и которая тебя занимает. А в целом все эти любовные терзания для современного поколения уже не такие болезненные: может быть, только моментами. Я не говорю окончательно, но то, что сегодняшний человек стал холоднее к литературе — это правда. Он не так нуждается в ней. Скорее, она становится всего лишь услаждением. Поэтому фэнтези так популярно — то, что совсем не похоже на твой мир, то, что тебя уводит. По сути, по-настоящему, осталось два типа литературы: документальная — документы, мемуары — жутко интересно, как жили люди, интересно разбираться в том, что было, какие были бытовые условия. И второе — экшен, фантазии, авантюрность — то, что не похоже на твой иногда кошмарный ежедневный мир. А серединная часть вымывается, романная часть, где придуманные герои, какие-то события — точно вымывается.
— Но при этом сейчас есть, например, в кино тенденция к повторению — то есть переснимают фильмы, которые уже когда-то были сняты. Говорит ли это о кризисе? Или о том, что пытаются воскресить интерес к тому, что уже было?
— Нет, думаю, не пытаются воскресить интерес, а просто используют какие-то схемы, которые интерпретационно можно совершенно по-другому подать. Это попытка поставить что-то в новых условиях, в новом антураже. Я не верю в возможность воскресить, хотя очень пытаюсь это сделать со студентами: девочки из Высшей школы телевидения очень увлеченно читают произведения XIX века, находящиеся не на поверхности, а боковые. Я всегда даю «Подростка» — роман, который мало, кто читал. Очень люблю давать Гончарова, потому что, на мой взгляд, это совершеннейший писатель, который мне открылся в последнее время — для меня он намного больше, чем Толстой, к которому я как-то уже немного остыла. А Гончаров, мне кажется, невероятным экспериментатором: в «Обрыве» такая смена точек зрения, особый герой, Райский. Это рай, который он обещает? Или он сам в раю? А может, это райский сад пыток, если вспомнить Октава Мирбо? Но он и художник, он же видит все происходящее то со стороны, воспринимает эстетически, то он включается… Потрясающе сделан роман, хотя очень трудный — сегодня читать такой долгий роман сложно. Но у меня читают и увлекаются. Хотя это отдельный эксперимент, я просто как экспериментатор пытаюсь это сделать, но это не так просто.
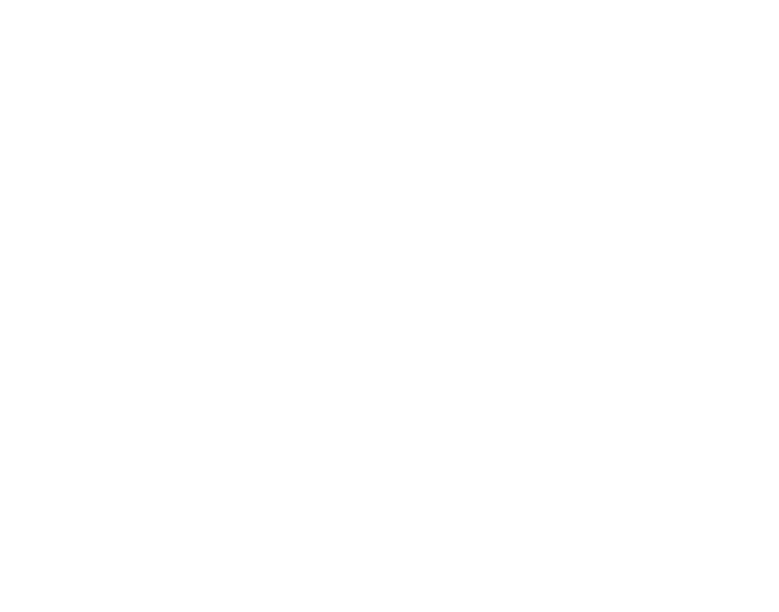
Рассказ о кинофильме режиссера Галины Евтушенко «Лев Толстой и Махатма Ганди: двойной портрет на фоне эпохи»
Нет, я знала, что это хороший художник, но одно дело — ты знаешь, что рядом с тобой просто хороший художник, а потом ты начинаешь понимать, что ходил рядом, пошатываясь, вот такой пьяный гений.
— Но вот речь зашла у нас о художниках. На фронтисписе юбилейного сборника «Долг и любовь» за 2011 год был размещён Ваш портрет работы Анатолия Зверева, которого Пабло Пикассо назвал «лучшим русским рисовальщиком». Расскажите, пожалуйста, как появился этот рисунок.
— Вы знаете, это вообще грустная история о русской богеме. В принципе я могла каждый день иметь свой портрет, потому что это был человек, который всегда пьяным лежал на газоне у моего дома и за три рубля рисовал портреты любого желающего... Я была дурочкой и не понимала, что могла бы получить невероятное количество своих портретов… Конечно, этим пользовались его друзья, потому что они получали деньги, покупали бутылки, а он рисовал. Знаете, сколько он рисовал? Ну, минут пятнадцать. Он же гениальный был. Линия, которую он вел, это совершенно удивительно... В моем доме выставлялись подпольные художники, это знаменитая Малая Грузинская 28. Тут была вся богемная компания 70-х… Но Зверев — это, конечно, особая планета… Так что это случайность — мой портрет, я с ним не была знакома лично.
— То есть Вы уже после узнали, кто он?
— Нет, я знала, что это хороший художник, но одно дело — ты знаешь, что рядом с тобой просто хороший художник, а потом ты начинаешь понимать, что ходил рядом, пошатываясь, вот такой пьяный гений. А он был тяжелый алкоголик. Я ходила на все устраиваемые выставки, любила эту подпольную богему, потому что они очень талантливы — эти художники семидесятых годов… Надо учесть, что это же советское время. Вы просто не можете себе представить, что такое советское время — это абсолютная убогость сознания, абсолютные запреты во всем. Я же не диссидентка была, которая где-то в углу читала подпольные распространяемые издания. Я обычный, в общем, законопослушный человек. Когда умер Брежнев, я пришла на лекцию и сказала: «Сегодня умер Леонид Ильич…» — и чуть не заплакала. А сегодня думаю: «Боже, что же это со мной было…» А я ведь на полном серьезе: старичок, с бровями, мне его жалко было. Вот в таком вакууме, в такой оболочке мы жили. Не выезжали. Но это отдельная песня, что такое советское время. И обучение в советское время — отдельная песня, когда мне все рассказывали про соцреализм, что это обязательно. Я всегда сама начинала историю критики читать со статьи Ленина, с «Партийной организации и партийной литературы». Не так, как сейчас, когда говорю, что там есть правильные мысли, а есть мысли, обусловленные временем, но есть и то, что развилось из этой частично правильной версии, во что это вылилось, во что превратилось и как это догматизировалось. Так что со Зверевым, к сожалению, у меня не получилось тесного контакта, о чем жалею сейчас.
— Вы знаете, это вообще грустная история о русской богеме. В принципе я могла каждый день иметь свой портрет, потому что это был человек, который всегда пьяным лежал на газоне у моего дома и за три рубля рисовал портреты любого желающего... Я была дурочкой и не понимала, что могла бы получить невероятное количество своих портретов… Конечно, этим пользовались его друзья, потому что они получали деньги, покупали бутылки, а он рисовал. Знаете, сколько он рисовал? Ну, минут пятнадцать. Он же гениальный был. Линия, которую он вел, это совершенно удивительно... В моем доме выставлялись подпольные художники, это знаменитая Малая Грузинская 28. Тут была вся богемная компания 70-х… Но Зверев — это, конечно, особая планета… Так что это случайность — мой портрет, я с ним не была знакома лично.
— То есть Вы уже после узнали, кто он?
— Нет, я знала, что это хороший художник, но одно дело — ты знаешь, что рядом с тобой просто хороший художник, а потом ты начинаешь понимать, что ходил рядом, пошатываясь, вот такой пьяный гений. А он был тяжелый алкоголик. Я ходила на все устраиваемые выставки, любила эту подпольную богему, потому что они очень талантливы — эти художники семидесятых годов… Надо учесть, что это же советское время. Вы просто не можете себе представить, что такое советское время — это абсолютная убогость сознания, абсолютные запреты во всем. Я же не диссидентка была, которая где-то в углу читала подпольные распространяемые издания. Я обычный, в общем, законопослушный человек. Когда умер Брежнев, я пришла на лекцию и сказала: «Сегодня умер Леонид Ильич…» — и чуть не заплакала. А сегодня думаю: «Боже, что же это со мной было…» А я ведь на полном серьезе: старичок, с бровями, мне его жалко было. Вот в таком вакууме, в такой оболочке мы жили. Не выезжали. Но это отдельная песня, что такое советское время. И обучение в советское время — отдельная песня, когда мне все рассказывали про соцреализм, что это обязательно. Я всегда сама начинала историю критики читать со статьи Ленина, с «Партийной организации и партийной литературы». Не так, как сейчас, когда говорю, что там есть правильные мысли, а есть мысли, обусловленные временем, но есть и то, что развилось из этой частично правильной версии, во что это вылилось, во что превратилось и как это догматизировалось. Так что со Зверевым, к сожалению, у меня не получилось тесного контакта, о чем жалею сейчас.
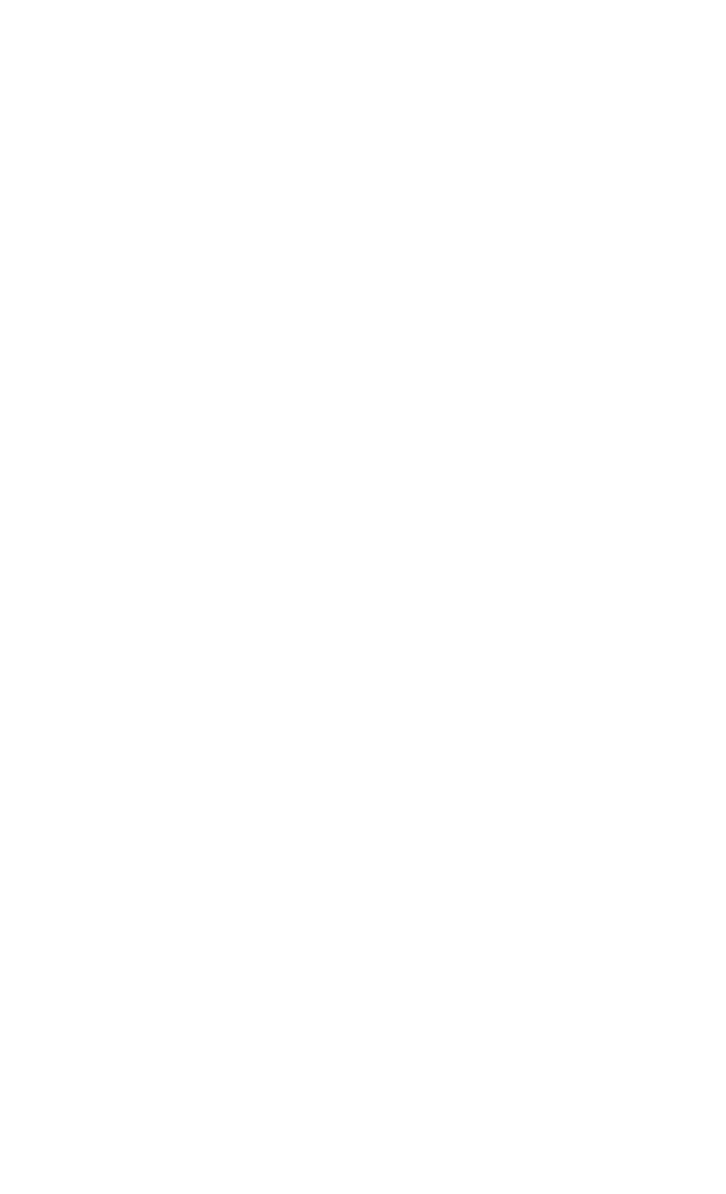
Портрет Марии Викторовны, написанный А. Зверевым
— Как известно, в филологии довольно часто ученика отождествляют с учителем, говорят о «школе Лотмана», «школе Переверзева» и т.д. Вашим научным руководителем был профессор Алексей Георгиевич Соколов, декан филологического факультета с 1961 по 1974 год. Насколько я знаю, из нынешних сотрудников кафедры у него обучались Вы и мой научный руководитель, Александр Владимирович Леденев. Скажите, можно ли выделить какие-то общие принципы, которых придерживаются в своей работе ученики Соколова, и можно ли говорить о какой-то «школе Соколова»? И каково это — учиться у человека, руководящего факультетом?
— Вы знаете, Алексей Георгиевич как раз был таким интересным феноменом — он не очень крупный как ученый, но он был очень хорошим, я считаю, руководителем научных работ. Он был весьма смелым руководителем — когда еще нельзя было давать работы по Анненскому и Белому, он дал эти темы своим аспирантам в семидесятые годы — Константину Черному и Альберту Авраменко. То есть он, конечно, очень расширял поле Серебряного века. У него было огромное количество учеников — все, кто приезжал в университет для изучения литературы этого периода, учились у него. У него больше ста защитившихся кандидатов наук, которые уже рассеяны по всему миру. Мы сейчас с Александром Владимировичем, с Сашей Леденевым, и с Еленой Певак, которая руководит «Стефаносом», написали о нем несколько статей. Они будут опубликованы. И в книге о деканах, и в связи с его 100-летием в «Вестнике» уже опубликована работа, в которой мы пытаемся раскрыть его особенность.
Он был, знаете, трудный руководитель. Я обычно все в работах учеников исправляю, бесконечно пишу, чиркаю и чиркаю, отчеркиваю, предлагаю свои варианты, поэтому очень долго работаю над их текстами, все меня ругают за это, но мне кажется, я так чему-то научаю… А он только на полях писал «ст.». То есть ты сама должна была думать, где у тебя плохо со стилем. Он мало тебя напрямую натаскивал. Я, конечно, немножко натаскиваю, обучаю, но, может, потому, что сейчас слабее студенты. Наверное, они слабее стали, только «ст.» на них не действует, они спросят: «а что такое “ст.”?» и «а что там у меня неправильно?» И мне полтора часа надо будет объяснять, что там неправильно сказано, понимаете? Мне проще написать самой, чтобы они переписали, и потом поняли, как надо строить фразу.
Я думаю, что есть школа Соколова, потому что в нем была еще одна очень хорошая черта, которую я стараюсь перенять. У меня есть группа моих учеников, которая собирается ежегодно уже больше десяти лет. Сейчас меньше, потому что все-таки пандемия, в прошлом году уже не получилось собраться. У Соколова был открытый дом, и ты всегда мог туда прийти, он всегда тебя звал, он тебя всегда ждал. Он очень любил фотографировать, был прекрасным фотографом. У него был набор фотоаппаратов, и он еще использовал тебя как модель. Но при этом он очень тепло с тобой общался, он как-то житейски тебе что-то говорил, он включался в твою жизнь, в нем была такая душевность, которую он не мог использовать как начальник. Он компенсировал общением со своими аспирантами тот факт, что был деканом, потому что в советское время быть деканом — это, могу сказать, надо было пройти большие проверки: при нем же все это диссидентство было, ему приходилось увольнять очень многих сотрудников, были скандалы. С Синявским — это же при нем было. Так что его положение всегда было двойственным, трудным. И все-таки думаю, что как декан он был хорош, и как руководитель был хорош, и думаю, что Соколовские чтения — это правильная дань.
Я ему очень многим обязана, он мне дал Бунина, с которым я окончила университет, он дал мне критику, которую я обожаю, я, может быть, критику люблю даже больше литературы. Он дал мне тему диссертации. Я же сейчас до сих пор хожу… Ходила, год уже не была, к его супруге. Она, конечно, в очень плохом состоянии теперь, но это дань бесконечной признательности. Кроме того, он сумел сделать так, что я осталась на кафедре, о чем надо помнить. Я не думаю, что тут только мои выдающиеся способности. Он увидел во мне, наверное, какой-то потенциал, потому что какие способности можно особенно реализовать в кандидатской? Ну, невозможно. А вот потенциал какой-то, наверное, он увидел. Я помню, как он был на моих лекциях, где я читала про Бальмонта и про Брюсова. Я не очень люблю Бальмонта, и он потом мне сказал: «Маша, с Вашим эстетическим вкусом как Вы можете не любить Бальмонта?» И меня осенило, что я что-то недопоняла в Бальмонте… Он очень ироничен был, никогда напрямую не говорил, мог подсмеяться так, я бы сказала, иногда даже довольно ядовито, но ты сразу начинал понимать что-то. Очень, очень интересный он был, такой непростой человек. Не все были на факультете о нем хорошего мнения как о декане, разные точки зрения существовали. Но соколовская школа, думаю, есть.
Он был, знаете, трудный руководитель. Я обычно все в работах учеников исправляю, бесконечно пишу, чиркаю и чиркаю, отчеркиваю, предлагаю свои варианты, поэтому очень долго работаю над их текстами, все меня ругают за это, но мне кажется, я так чему-то научаю… А он только на полях писал «ст.». То есть ты сама должна была думать, где у тебя плохо со стилем. Он мало тебя напрямую натаскивал. Я, конечно, немножко натаскиваю, обучаю, но, может, потому, что сейчас слабее студенты. Наверное, они слабее стали, только «ст.» на них не действует, они спросят: «а что такое “ст.”?» и «а что там у меня неправильно?» И мне полтора часа надо будет объяснять, что там неправильно сказано, понимаете? Мне проще написать самой, чтобы они переписали, и потом поняли, как надо строить фразу.
Я думаю, что есть школа Соколова, потому что в нем была еще одна очень хорошая черта, которую я стараюсь перенять. У меня есть группа моих учеников, которая собирается ежегодно уже больше десяти лет. Сейчас меньше, потому что все-таки пандемия, в прошлом году уже не получилось собраться. У Соколова был открытый дом, и ты всегда мог туда прийти, он всегда тебя звал, он тебя всегда ждал. Он очень любил фотографировать, был прекрасным фотографом. У него был набор фотоаппаратов, и он еще использовал тебя как модель. Но при этом он очень тепло с тобой общался, он как-то житейски тебе что-то говорил, он включался в твою жизнь, в нем была такая душевность, которую он не мог использовать как начальник. Он компенсировал общением со своими аспирантами тот факт, что был деканом, потому что в советское время быть деканом — это, могу сказать, надо было пройти большие проверки: при нем же все это диссидентство было, ему приходилось увольнять очень многих сотрудников, были скандалы. С Синявским — это же при нем было. Так что его положение всегда было двойственным, трудным. И все-таки думаю, что как декан он был хорош, и как руководитель был хорош, и думаю, что Соколовские чтения — это правильная дань.
Я ему очень многим обязана, он мне дал Бунина, с которым я окончила университет, он дал мне критику, которую я обожаю, я, может быть, критику люблю даже больше литературы. Он дал мне тему диссертации. Я же сейчас до сих пор хожу… Ходила, год уже не была, к его супруге. Она, конечно, в очень плохом состоянии теперь, но это дань бесконечной признательности. Кроме того, он сумел сделать так, что я осталась на кафедре, о чем надо помнить. Я не думаю, что тут только мои выдающиеся способности. Он увидел во мне, наверное, какой-то потенциал, потому что какие способности можно особенно реализовать в кандидатской? Ну, невозможно. А вот потенциал какой-то, наверное, он увидел. Я помню, как он был на моих лекциях, где я читала про Бальмонта и про Брюсова. Я не очень люблю Бальмонта, и он потом мне сказал: «Маша, с Вашим эстетическим вкусом как Вы можете не любить Бальмонта?» И меня осенило, что я что-то недопоняла в Бальмонте… Он очень ироничен был, никогда напрямую не говорил, мог подсмеяться так, я бы сказала, иногда даже довольно ядовито, но ты сразу начинал понимать что-то. Очень, очень интересный он был, такой непростой человек. Не все были на факультете о нем хорошего мнения как о декане, разные точки зрения существовали. Но соколовская школа, думаю, есть.
— Как Вы считаете, можно ли говорить о «школе Михайловой»?
— Мне сейчас рано об этом думать, хотя ученики говорят, что они продолжают. У меня есть два ударных момента, которые мне кажутся действительно важными: это понимание литературного процесса во всем его многообразии, за счет чего можно показать его многогранность, потому что разговоры только о вершинах мне кажутся недостаточными. И мне кажется, что нужны эти ручейки, эти ключи, эти потоки. Тогда ты понимаешь его сверкание. Я всегда говорю: на небе есть Млечный путь. Небо светлое, когда Млечный путь виден ярко, а когда там только звезды, а Млечного пути не видишь, небо не озаряется. Я всегда за то, чтобы изучать Млечный путь. Ну и, конечно, реабилитация женской литературы очень важна, потому что все-таки на каком-то этапе это было интересно, это был прорыв. А что сейчас — трудно сказать, про сегодняшний день сложнее судить.
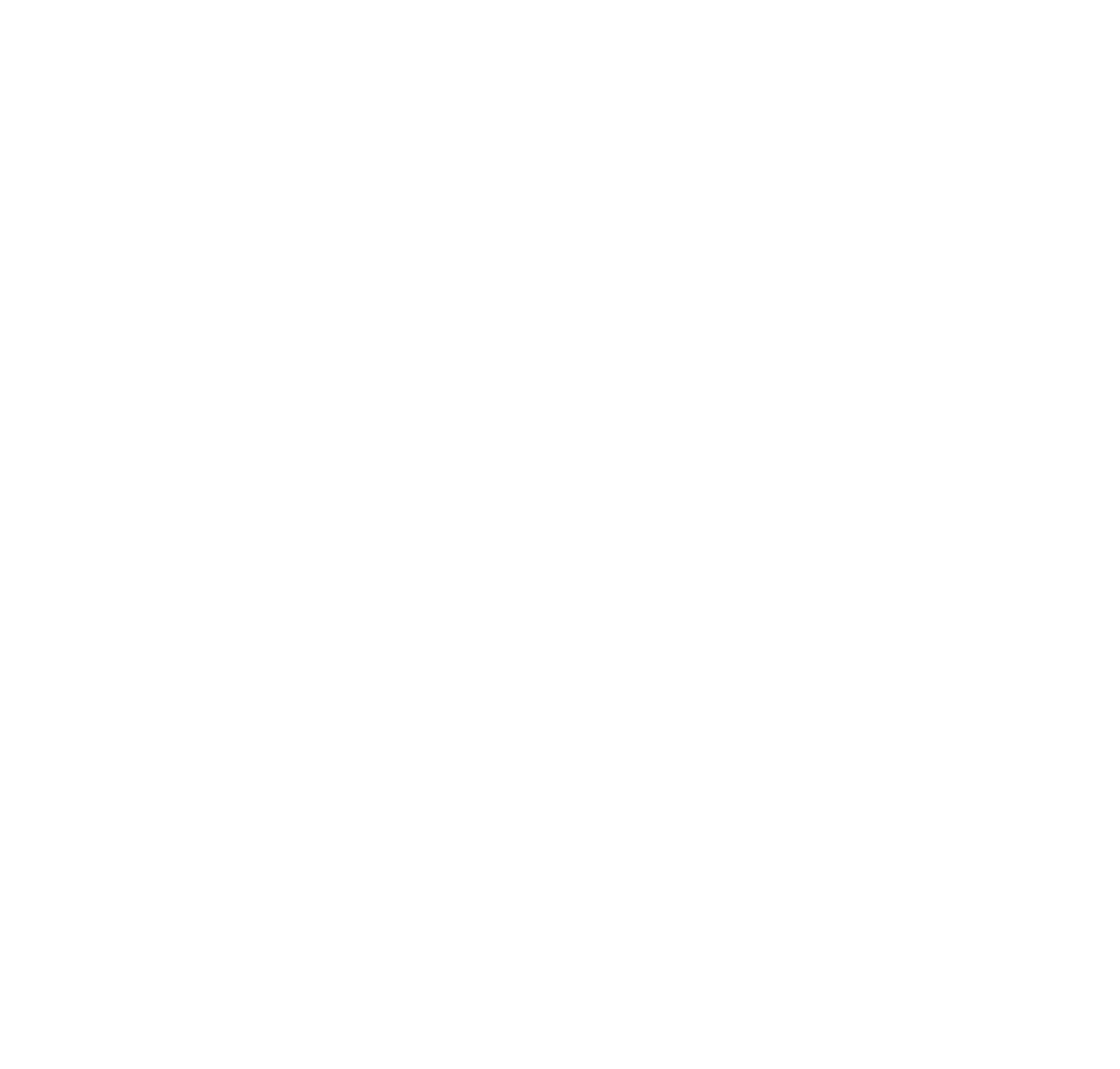
Фото из японского календаря 1968 года
— В 2020 году Вы издали сборник работ Анны Мар — писательницы, которую часто причисляют ко «второму», а то и «третьему» ряду русской литературы. Кроме того, Вы активно занимаетесь продвижением творчества Лидии Зиновьевой-Аннибал, Нины Петровской, Тэффи, Александры Мирэ… Известно, что еще Зинаида Гиппиус писала о том, что женщин-писательниц чаще сравнивают друг с другом, чем с их коллегами-мужчинами. Как Вы считаете, справедливо ли это, и как следует подходить к описанию литературного процесса, чтобы учесть все его значимые аспекты?
— Как раз Зинаида Гиппиус говорила о том, что женщину всегда сравнивают с мужчиной, поэтому она всегда оказывается в приниженном положении. В статье «Зверебог» она говорила, что женщина может написать только одну хорошую книгу: о себе самой. Вторая всегда будет плохой. Но к ней нельзя особенно прислушиваться, потому что она парадоксалистка.
— Будучи женщиной, она сама так писала…
— Она не совсем женщина, потому что она себя позиционировала как представительницу как бы третьего пола, который выше всего существующего. Поэтому у нее несколько иной диапазон самопроявления. Но, конечно, без женской литературы, особенно XX век, невозможно себе представить. Женская литература прорывалась вперед особенно интенсивно в это время. У меня есть версии, что были какие-то импульсы, которыми позже питалась литература более значительная. Тот же Бунин, мне кажется, очень серьезно подпитывался этой литературой. Вообще я считаю, что Бунин — абсолютный гений, потому что он умел «как пчела» собрать мед. И женское начало тоже было для него важно. Может быть, не появилась бы его Оленька Мещерская с ее внутренним порывом, если бы он глубоко — а он сам очень страстный был человек — не понимал, что делают женщины в новой литературной ситуации. Безусловно, женская литература абсолютно не второсортна, не третьесортна, если мы не берем, конечно, вот этих абсолютных гениев, непререкаемых. Хотя тоже ведь Бунина никто не считал гением в начале ХХ века.
— Как и Куприна.
— Куприн до сих пор непонятное место занимает: то ли беллетрист, то ли классик. И на самом деле в Куприне очень много беллетристического. Грань между высокой литературой и беллетристикой тонка… Я недавно прочитала, что Сологуб в «Творимой легенде» многое списал у Викторьена дю Соссейя, который написал роман «Дневник кушетки». Самый-самый пошлый автор. И есть критик, который провел этот сопоставительный анализ с другим романом этого Викторьена, которого никто сегодня и не знает даже, поскольку это пошлятина запредельная. Значит, и наш крупный символист не гнушался... При этом я люблю «Творимую легенду» Сологуба, мне кажется, в жанровом плане это очень интересный роман — политический, авантюрный, фантазийный.
Да, женская литература иногда была и в авангарде даже. Особенно женская драматургия Серебряного века. Они позволили себе такие эксперименты, которые отзываются в современности. Другое дело, что женщина никогда не может до конца понять, что она сделала. Обычно у женщины нет этой самооценки, этого самосознания, самопостижения. Она сделала открытие и побежала дальше... И не понимает. А Бунин понимал. Сделал открытие — и давай его эксплуатировать.
— Как раз Зинаида Гиппиус говорила о том, что женщину всегда сравнивают с мужчиной, поэтому она всегда оказывается в приниженном положении. В статье «Зверебог» она говорила, что женщина может написать только одну хорошую книгу: о себе самой. Вторая всегда будет плохой. Но к ней нельзя особенно прислушиваться, потому что она парадоксалистка.
— Будучи женщиной, она сама так писала…
— Она не совсем женщина, потому что она себя позиционировала как представительницу как бы третьего пола, который выше всего существующего. Поэтому у нее несколько иной диапазон самопроявления. Но, конечно, без женской литературы, особенно XX век, невозможно себе представить. Женская литература прорывалась вперед особенно интенсивно в это время. У меня есть версии, что были какие-то импульсы, которыми позже питалась литература более значительная. Тот же Бунин, мне кажется, очень серьезно подпитывался этой литературой. Вообще я считаю, что Бунин — абсолютный гений, потому что он умел «как пчела» собрать мед. И женское начало тоже было для него важно. Может быть, не появилась бы его Оленька Мещерская с ее внутренним порывом, если бы он глубоко — а он сам очень страстный был человек — не понимал, что делают женщины в новой литературной ситуации. Безусловно, женская литература абсолютно не второсортна, не третьесортна, если мы не берем, конечно, вот этих абсолютных гениев, непререкаемых. Хотя тоже ведь Бунина никто не считал гением в начале ХХ века.
— Как и Куприна.
— Куприн до сих пор непонятное место занимает: то ли беллетрист, то ли классик. И на самом деле в Куприне очень много беллетристического. Грань между высокой литературой и беллетристикой тонка… Я недавно прочитала, что Сологуб в «Творимой легенде» многое списал у Викторьена дю Соссейя, который написал роман «Дневник кушетки». Самый-самый пошлый автор. И есть критик, который провел этот сопоставительный анализ с другим романом этого Викторьена, которого никто сегодня и не знает даже, поскольку это пошлятина запредельная. Значит, и наш крупный символист не гнушался... При этом я люблю «Творимую легенду» Сологуба, мне кажется, в жанровом плане это очень интересный роман — политический, авантюрный, фантазийный.
Да, женская литература иногда была и в авангарде даже. Особенно женская драматургия Серебряного века. Они позволили себе такие эксперименты, которые отзываются в современности. Другое дело, что женщина никогда не может до конца понять, что она сделала. Обычно у женщины нет этой самооценки, этого самосознания, самопостижения. Она сделала открытие и побежала дальше... И не понимает. А Бунин понимал. Сделал открытие — и давай его эксплуатировать.
— Вы недавно сказали, что есть такое суждение, будто если бы Зиновьева-Аннибал так рано не умерла, у нас была бы своя Вирджиния Вульф. А вот насколько у нас вообще были такие Вирджинии Вульф? И нужна ли нам вообще была Вирджиния Вульф?
— Я думаю, что нужна была. В этом плане я не могу, к сожалению, назвать такого прозаика в Серебряном веке. Я могу назвать Ахматову и Цветаеву, частично Гиппиус. Но как поэтов. Сама я не очень люблю поэзию Гиппиус, но это другое дело. Хотя постепенно начинаю что-то там понимать больше, чем вначале. Сейчас я вижу, что она экспериментатор, очень интересно мыслит, совершенно неожиданно, хотя немного и однообразно. В прозе все-таки не могу таких гениальных назвать. Но Зиновьева-Аннибал развивалась именно в новаторском направлении, она абсолютно трансформировала прозу. Она открывала этот поток сознания, в котором параллельно творил Джойс. Она создавала это экзистеницальное постижение мира через свое растворение в мире, через свою стихийность. Она действительно была таким кентавром, который одной частью в традиции, а другой — куда-то уже перетекает. Проза ее текучая, впитывающаяся во все вокруг и безмерно смелая. Она грандиозная по потенциалу. Просто не успела до конца развиться, хотя «Трагический зверинец» потрясающий. Но разве рядом с Ивановым разовьешься? Это же давящее нечто. Но любила его бесконечно, хотя и придавливал. Но, может, это и было ей нужно: развиваться сопротивляясь?..
Иванову повезло, потому что он очень оплодотворился ею, ему нужна была такая подпитка. Она мощь-мощь-мощь, а он сухонький, ему нужно было питание. А он такой гномик с большой умной головой...
— А он потом на падчерице женился...
— Он уверял, что видит в падчерице ее воплощение. Кто знает — обманывал, а, может быть, и правда видел. Мне кажется, он был большой врун и фантазер. И очень хитрый человек, потому что, когда надо, он говорил то, что надо. Но Зиновьева-Аннибал была великой, она за четыре года абсолютно преобразилась. Даже меньше, за три года. И очень росла. При этом не очень же грамотная была, образования никакого. «Мертвые души» прочитала в зрелом возрасте. Но гений внутри. Так что Иванову повезло, потому что он очень оплодотворился ею, ему нужна была такая подпитка. Она мощь-мощь-мощь, а он сухонький, ему нужно было питание. А он такой гномик с большой умной головой...
— Мария Викторовна, Вы активно занимаетесь женской литературой начала XX века. А насколько хорошо Вы знакомы с современной женской литературой и есть ли у Вас любимые писательницы?
— Тут мне труднее, потому что я не успеваю следить. Я осталась в каких-то традиционных представлениях. Вот все мне говорят, что Степнову надо прочитать, а я не прочитала. Я не очень высоко ставлю Улицкую, как это ни странно, потому что я считаю, что она большую форму не держит. Она лучше в повестях. Точнее не могу сказать — я лучше знаю современную женскую драматургию и слежу за ней. Мне кажется, она как раз очень интересно развивается. Я еще Петрушевскую вначале застала и знала ее, и потом я очень люблю драматургию в целом, я много об этом думаю. Наверное, и с прозой так, но не знаю…
— А Светлана Алексиевич?
— Трудно сказать о ней как о женской писательнице, потому что она разрабатывает особый жанр — живой рассказ. Она чувствует современность, эти больные точки, и этим она мне весьма симпатична. То, что она сделала, зафиксировала женское лицо на войне — это целый неоткрытый материк. Мы просто не знаем до конца ужаса пребывания женщины на войне. У нас все время героизация, но реальный ужас, известный людям, которые прошли это, мы не представляем. Я делала не так давно доклад об одном писателе, который как бы зафиксировал пребывание женщины на фронте. Но хотя он современник этих женщин — все равно идеология все сглаживала.
Знаете фильм «Дылда», который сейчас появился? Он получил, по-моему, премию на каком-то фестивале. Посмотрите, это как раз про женщин на войне. Но тут уклон в другую сторону — только ужас, кошмар. Это одна сторона, потому что вообще война и советский человек — это настолько амбивалентное явление... С одной стороны, вера, оптимизм, радость, готовность и бодрость. А с другой стороны — закрывание глаз на реальное положение вещей, существование в абсолютной мифологии. Советский человек — это абсолютный мифолог, придумывавший себе мифы, существовавший в мифах — спасительных мифах. Советская действительность очень многое женщине дала. Она освободила ее от тягот женской судьбы и дала возможность почувствовать себя стахановкой, находить в этом наслаждение, перестать думать о том, что у тебя неустроенная женская судьба, что ты несчастная, тебя бросили… У меня такая мама: она насладилась своей работой сполна. И работала до восьмидесяти с чем-то лет, никак не хотела уходить, жила только работой. В выходные дни туда шла. Даже не понимала, что можно вообще в выходные дни заниматься домом и детьми. Счастливая была. Или уговаривала себя? Но, думаю, что советское время дало женщине все-таки счастье.
— Тут мне труднее, потому что я не успеваю следить. Я осталась в каких-то традиционных представлениях. Вот все мне говорят, что Степнову надо прочитать, а я не прочитала. Я не очень высоко ставлю Улицкую, как это ни странно, потому что я считаю, что она большую форму не держит. Она лучше в повестях. Точнее не могу сказать — я лучше знаю современную женскую драматургию и слежу за ней. Мне кажется, она как раз очень интересно развивается. Я еще Петрушевскую вначале застала и знала ее, и потом я очень люблю драматургию в целом, я много об этом думаю. Наверное, и с прозой так, но не знаю…
— А Светлана Алексиевич?
— Трудно сказать о ней как о женской писательнице, потому что она разрабатывает особый жанр — живой рассказ. Она чувствует современность, эти больные точки, и этим она мне весьма симпатична. То, что она сделала, зафиксировала женское лицо на войне — это целый неоткрытый материк. Мы просто не знаем до конца ужаса пребывания женщины на войне. У нас все время героизация, но реальный ужас, известный людям, которые прошли это, мы не представляем. Я делала не так давно доклад об одном писателе, который как бы зафиксировал пребывание женщины на фронте. Но хотя он современник этих женщин — все равно идеология все сглаживала.
Знаете фильм «Дылда», который сейчас появился? Он получил, по-моему, премию на каком-то фестивале. Посмотрите, это как раз про женщин на войне. Но тут уклон в другую сторону — только ужас, кошмар. Это одна сторона, потому что вообще война и советский человек — это настолько амбивалентное явление... С одной стороны, вера, оптимизм, радость, готовность и бодрость. А с другой стороны — закрывание глаз на реальное положение вещей, существование в абсолютной мифологии. Советский человек — это абсолютный мифолог, придумывавший себе мифы, существовавший в мифах — спасительных мифах. Советская действительность очень многое женщине дала. Она освободила ее от тягот женской судьбы и дала возможность почувствовать себя стахановкой, находить в этом наслаждение, перестать думать о том, что у тебя неустроенная женская судьба, что ты несчастная, тебя бросили… У меня такая мама: она насладилась своей работой сполна. И работала до восьмидесяти с чем-то лет, никак не хотела уходить, жила только работой. В выходные дни туда шла. Даже не понимала, что можно вообще в выходные дни заниматься домом и детьми. Счастливая была. Или уговаривала себя? Но, думаю, что советское время дало женщине все-таки счастье.
— Вы знаете, недавно драматург Коляда высказался о том, что женщина обязана готовить, делать домашние котлеты. Мне же кажется сомнительным утверждение, что все советские женщины непременно были хорошими хозяйками.
— Да нет, я думаю, что советские женщины были плохими хозяйками в большинстве своем, потому что это было, честно говоря, довольно презираемое дело. Сейчас все обмениваются кулинарными рецептами, рассказывают, что они могут готовить — сейчас все по-другому. А тогда, чтобы в моем окружении или у мамы кто-то вообще рассказывал, что они приготовили… Притом они готовили, но, понимаете, это не было фетишем, как сегодня. Тогда это было как бы между прочим — я помню, как мама готовила: пришла с работы, тяп-ляп — и готово. И дальше по телефону устраивала рабочие дела. Она у меня в библиотеке работала, а там же все время то собрание коллектива, то выставка, то общение с воинской частью — что-то грандиозное. Я думаю, что для женщины это было в какой-то степени счастливой возможностью, потому что ты могла реализовываться в престижной какой-то сфере, где ты была уважаема.
Кстати, действительно, в советское время все профессии, пусть на словах, но представали как более или менее уважаемые. Тогда не было такого «ах, ты медсестра!». Нет, была медсестра, были операционные сестры. И было: «О, Вы в операционной?..» Так что советское время для женщины было, наверное, наилучшим по сравнению с другими слоями населения. Для интеллигенции — довольно плохо, для крестьянства — довольно плохо, про рабочий класс не знаю, но для женщины среднего класса, наверное, даже хорошо.
Кстати, действительно, в советское время все профессии, пусть на словах, но представали как более или менее уважаемые. Тогда не было такого «ах, ты медсестра!». Нет, была медсестра, были операционные сестры. И было: «О, Вы в операционной?..» Так что советское время для женщины было, наверное, наилучшим по сравнению с другими слоями населения. Для интеллигенции — довольно плохо, для крестьянства — довольно плохо, про рабочий класс не знаю, но для женщины среднего класса, наверное, даже хорошо.
— То есть реализация женщины в советское время была реальной?
— Да, она была все-таки довольно реальной. Например, обязательно сколько-нибудь должно было быть женщин в Верховном Совете. Сегодня, как вы видите, никто на это не смотрит.
— Некоторые как раз говорят, что это свидетельствует об отсутствии дискриминации.
— Да, но понимаете, когда один пол постоянно унижается, то в какой-то момент ему надо дать возможность проявиться. А потом, когда все выровняется, уже действовать на равных. Это как с вопросом толерантности. Понимаете, можно возмущаться поведением афроамериканцев, но когда до этого столько времени принижали… Такой же вопрос, как и с мигрантами. Что с ними делать в Европе? Пускать или не пускать? Это проблема гуманизма: с одной стороны, вы столько их угнетали в Африке и в итоге сделали, что третий мир на вас работал. А с другой стороны — они не хотят работать в Европе, не хотят ассимилироваться. А почему они в другой стране должны ассимилироваться? Тогда вопрос: почему они едут, если они не хотят ассимилироваться? Понимаете, это замкнутый круг. Так что я думаю, что как раз в советское время, глядя и на мою маму, и на мою бабушку с их несчастными именно женскими судьбами, они сумели реализоваться. И у них были моменты, я бы сказала, даже триумфа. Моя мама с упоением работала, у нее была прекрасная библиотека, она была там директором. Она столько напридумывала в этой библиотечной сфере — это было просто что-то потрясающее. И она в это была погружена. А дети родились как-то так, между прочим. Может, она нашла нас вообще в кустах… Не знаю.
— Да, она была все-таки довольно реальной. Например, обязательно сколько-нибудь должно было быть женщин в Верховном Совете. Сегодня, как вы видите, никто на это не смотрит.
— Некоторые как раз говорят, что это свидетельствует об отсутствии дискриминации.
— Да, но понимаете, когда один пол постоянно унижается, то в какой-то момент ему надо дать возможность проявиться. А потом, когда все выровняется, уже действовать на равных. Это как с вопросом толерантности. Понимаете, можно возмущаться поведением афроамериканцев, но когда до этого столько времени принижали… Такой же вопрос, как и с мигрантами. Что с ними делать в Европе? Пускать или не пускать? Это проблема гуманизма: с одной стороны, вы столько их угнетали в Африке и в итоге сделали, что третий мир на вас работал. А с другой стороны — они не хотят работать в Европе, не хотят ассимилироваться. А почему они в другой стране должны ассимилироваться? Тогда вопрос: почему они едут, если они не хотят ассимилироваться? Понимаете, это замкнутый круг. Так что я думаю, что как раз в советское время, глядя и на мою маму, и на мою бабушку с их несчастными именно женскими судьбами, они сумели реализоваться. И у них были моменты, я бы сказала, даже триумфа. Моя мама с упоением работала, у нее была прекрасная библиотека, она была там директором. Она столько напридумывала в этой библиотечной сфере — это было просто что-то потрясающее. И она в это была погружена. А дети родились как-то так, между прочим. Может, она нашла нас вообще в кустах… Не знаю.
— Насколько я знаю, в 2020 году издание «Полка» провело масштабный опрос экспертов с тем, чтобы составить список лучших русских книг за последнее столетие. На первом месте оказалась книга Марии Степановой «Памяти памяти» (2017 год), а в первую двадцатку вошли романы Мариам Петросян, Гузель Яхиной, Натальи Мещаниновой, Линор Горалик… Не секрет, что часто когда мы говорим о женском творчестве начала XX века, мы фиксируем некоторые текстовые особенности, позволяющие отчетливо разделять «мужское» и «женское» письмо. Скажите, как Вы думаете, сохраняется ли в XXI веке подобное разделение и если да, то в чем оно проявляется?
— Вы знаете, это самый сложный вопрос: есть ли специфика женского письма? Можно определить только тогда, когда поднимается проблематика, связанная с социокультурными ролями, с проблемой власти, с проблемой телесности. То есть это, условно говоря, в большей или меньшей степени реалистический диапазон. Как только вы переходите в абсолютно постмодернистский контекст, там все сглаживается. Там тоже, конечно, можно выделять, определять женских и мужских персонажей, но очень много мужчин, которые могут имитировать или действительно осуществлять женские притязания. У меня есть большая статья «Брюсов о женщине», в которой я рассматриваю его женские тексты и пытаюсь подловить на несоответствиях. И вроде бы подлавливаю, потому что где-то, в каких-то моментах он, конечно, прокалывается. Но это только там, где ты работаешь с таким реалистическим в широком диапазоне дискурсом. На самом деле это очень трудно. В начале ХХ века, когда надо было заявлять о себе, они заявляли себя на поле бунта, на поле протеста, на поле сопротивления дискриминации. Сегодня все-таки такой дискриминации нет, женщины в мире самоосуществляются так или иначе. Но в нашей стране своя собственная демократия. Как она называется? Суверенная. Вот у нас суверенная демократия, у нас суверенная гендеристика, у нас все суверенное. У нас все особое. В мировом процессе, конечно, женщина занимает сейчас невероятно значимое место: и в политике, и в литературе.
Просто посмотрите на Нобелевские премии последних десяти лет. И это действительно интересно. Вот мне Кэрол Оутс очень интересна, она потрясающая. Я очень жалею, что она не получила Нобелевскую. Или Маргарет Этвуд. Если не читали, почитайте их обеих. Но в целом сегодня женские тексты становятся, может быть, даже нейтральными в какой-то степени, теряют свою бунтарскую специфику. Правда, это не касается постколониальных стран. Я плохо знаю Тони Моррисон, которая получила Нобелевскую премию. Говорят, она очень интересно пишет, но я ее не читала, только слышала.
Просто посмотрите на Нобелевские премии последних десяти лет. И это действительно интересно. Вот мне Кэрол Оутс очень интересна, она потрясающая. Я очень жалею, что она не получила Нобелевскую. Или Маргарет Этвуд. Если не читали, почитайте их обеих. Но в целом сегодня женские тексты становятся, может быть, даже нейтральными в какой-то степени, теряют свою бунтарскую специфику. Правда, это не касается постколониальных стран. Я плохо знаю Тони Моррисон, которая получила Нобелевскую премию. Говорят, она очень интересно пишет, но я ее не читала, только слышала.
Я же просто с ума схожу при соприкосновении с библиотеками: когда попадаю в библиотеку, сначала падаю в обморок, потом прихожу в себя и подхожу к полкам
— У нас остается последний вопрос: недавно Михаил Михайлович Голубков выпустил книгу «Зачем нужна русская литература?». А как на этот вопрос Вы бы ответили?
— Для меня, к сожалению, литература перестает быть и нравственной площадкой, и нравственным ориентиром. Это, конечно, будет в итоге некое увлечение для снобов, перейдет в область элитарного существования. Я думаю, по-прежнему будут разговоры о том, что литературу надо уменьшать в школах. И это имеет под собой печальное основание. Я имею в виду то, как преподается литература в школах, когда с этими экзаменами она никак не может обогащать, что-то давать… Думаю, что надо менять набор текстов, все-таки менять эту классику, может быть, больше ориентироваться на комплекс молодости, больше говорить о молодых героях. В целом, мне кажется, что сегодня литература не является востребованной сферой. И она никакого отношения к нравственности не имеет. Печально, но так. Она не формирует эту нравственность. Я знаю людей, абсолютно лишенных даже представления о нравственности, которые читают книги. Я много смотрю на какие-то отклонения, девиации, меня интересует и психиатрия, учитывая мое медицинское прошлое. Вот этот человек, который сейчас убил семью, наверное, слышали? Он, оказывается, очень любил читать. Литература вообще имеет боковое влияние, косвенное. Ты сам должен быть восприимчивым для того, чтобы литература в тебя проникала.
Никогда не забуду: я занималась со своим племянником, готовя его к поступлению в университет. Мы проходили «После бала». И он приходит ко мне с таким глазами: «О, а я не знал, что офицеров били в русской армии». Я говорю: «С чего ты взял? Как офицеров могли бить?» Оказывается, он прочитал первую фразу, что «привели на плацдарм», и последнюю о том, что «его выволокли с плацдарама». Он не знал, что речь об этом несчастном татарине, а не об офицере... Вот это типичный пример. Он сейчас, правда, изменился, он по-другому мыслит, считает, что я сыграла здесь большую роль в его становлении. Льстит ведь, конечно… Но он был в полной уверенности, что офицеров бьют. Я говорю: «Ты хоть середину-то прочитай. Иногда полезно. Не только начало и конец». Он больше всего любил роман «Обломов». Он говорил: «Там есть гениальная фраза: “Он спал, и ему снилось, как он хочет спать”». Потому что он тоже всегда хотел спать и мечтал быть, как Обломов… Нет, все намного сложнее. Мне кажется, через литературу надо пытаться выработать в человеке потребность во внутреннем изменении, чтобы он все время тянул себя за уши, как Мюнхгаузен. Но это же можно сделать не только с помощью литературы. С помощью истории. Там масса примеров. Вообще гуманитарные науки в широком плане. Мне кажется, очень важны живопись, музыка. А почему не музыка, которая будет нравственно тебя совершенствовать? Я считаю, что мой большой недостаток заключается в том, что я очень плохо понимаю музыку — то есть я ее люблю, проникаюсь, но, конечно, той глубины понимания, которая есть у людей с музыкальным образованием, у меня нет. С помощью музыки можно точно также сформировать эту потребность глубинного ожидания, каких-то импульсов, которые ты будешь получать извне — не из конкретики, а из высоких сфер. А сейчас на это ничто не нацелено. И вся цивилизация исключает литературу. Скорее будет музыка. Для молодежи музыка намного важнее, чем литература.Вы, наверное, сами знаете, что сложности и разнообразия музыкальных направлений для молодежи имеют большую значимость, чем какие-то литературные изыски. Разве не так?
Никогда не забуду: я занималась со своим племянником, готовя его к поступлению в университет. Мы проходили «После бала». И он приходит ко мне с таким глазами: «О, а я не знал, что офицеров били в русской армии». Я говорю: «С чего ты взял? Как офицеров могли бить?» Оказывается, он прочитал первую фразу, что «привели на плацдарм», и последнюю о том, что «его выволокли с плацдарама». Он не знал, что речь об этом несчастном татарине, а не об офицере... Вот это типичный пример. Он сейчас, правда, изменился, он по-другому мыслит, считает, что я сыграла здесь большую роль в его становлении. Льстит ведь, конечно… Но он был в полной уверенности, что офицеров бьют. Я говорю: «Ты хоть середину-то прочитай. Иногда полезно. Не только начало и конец». Он больше всего любил роман «Обломов». Он говорил: «Там есть гениальная фраза: “Он спал, и ему снилось, как он хочет спать”». Потому что он тоже всегда хотел спать и мечтал быть, как Обломов… Нет, все намного сложнее. Мне кажется, через литературу надо пытаться выработать в человеке потребность во внутреннем изменении, чтобы он все время тянул себя за уши, как Мюнхгаузен. Но это же можно сделать не только с помощью литературы. С помощью истории. Там масса примеров. Вообще гуманитарные науки в широком плане. Мне кажется, очень важны живопись, музыка. А почему не музыка, которая будет нравственно тебя совершенствовать? Я считаю, что мой большой недостаток заключается в том, что я очень плохо понимаю музыку — то есть я ее люблю, проникаюсь, но, конечно, той глубины понимания, которая есть у людей с музыкальным образованием, у меня нет. С помощью музыки можно точно также сформировать эту потребность глубинного ожидания, каких-то импульсов, которые ты будешь получать извне — не из конкретики, а из высоких сфер. А сейчас на это ничто не нацелено. И вся цивилизация исключает литературу. Скорее будет музыка. Для молодежи музыка намного важнее, чем литература.Вы, наверное, сами знаете, что сложности и разнообразия музыкальных направлений для молодежи имеют большую значимость, чем какие-то литературные изыски. Разве не так?
— Музыка сейчас тоже немного мутирует. Я могу судить по себе и своим друзьям. Мы любим ходить на разные клубные концерты, а вот многие люди немного младше нас эту эстетику уже не понимают. Для них важно домашнее прослушивание.
— Ну, это вопрос: как потреблять. Но все равно музыка очень важна.
— Музыка важна, но не та, что мы слушали. Мы любили более, не могу сказать «классический рок», это немного оксюморон. Но они уже более эклектичные.
— Но, может быть, это движение музыкальное какое-то? Но это же развитие музыки.
— Да, развивается, но иногда непредсказуемо: иногда кажется, что в сторону чего-то более примитивного, а иногда — наоборот, кажется, что они что-то берут из предшествующего времени и доводят до апогея.
— Мне все равно кажется, что музыка сейчас очень важна. Так же, как и какие-то визуальные моменты — клиповое, изобразительное мышление. Литература здесь все-таки будет немножко отставать, она же требует прочтения, а это быстро не получается.
— Но тот же рэп, где многое уделяется тексту и его начитке, популярен довольно.
— Но все-таки рэп — это не очень литературно.
— Он усложняется со временем.
— Может быть, здесь я не берусь судить. Но мне кажется, что визуально-аудиальная эстетика будет превалировать. Литература более интимна. Ты не можешь группой, условно говоря, читать книгу.
— Но пытаются делать сейчас книжные клубы, воскрешать...
— Но все равно это будет обсуждение. А процесс чтения индивидуальный: ты берешь книжку и читаешь, у тебя работает воображение. Но трудно бороться и сопротивляться общей тенденции.
— Но как Вы считаете, некоторые сейчас критикуют молодежь за то, она не читает. Говорят, что воображение не будет развиваться. Они привыкают к тому, что у них визуальный контент, они смотрят фильмы, и уже сами ничего для себя не представляют, ждут, когда покажут картинку.
— Трудно же так говорить, не зная психологических и психических результатов, экспериментов. Откуда мы знаем, как оно развивается? Каким образом рождается воображение, насколько оно нужно, востребовано? А вообще, зачем воображение-то? Без него, что, жить нельзя?
— Наверное, все-таки нельзя.
— А почему нельзя? Зачем нам оно?
— Музыка важна, но не та, что мы слушали. Мы любили более, не могу сказать «классический рок», это немного оксюморон. Но они уже более эклектичные.
— Но, может быть, это движение музыкальное какое-то? Но это же развитие музыки.
— Да, развивается, но иногда непредсказуемо: иногда кажется, что в сторону чего-то более примитивного, а иногда — наоборот, кажется, что они что-то берут из предшествующего времени и доводят до апогея.
— Мне все равно кажется, что музыка сейчас очень важна. Так же, как и какие-то визуальные моменты — клиповое, изобразительное мышление. Литература здесь все-таки будет немножко отставать, она же требует прочтения, а это быстро не получается.
— Но тот же рэп, где многое уделяется тексту и его начитке, популярен довольно.
— Но все-таки рэп — это не очень литературно.
— Он усложняется со временем.
— Может быть, здесь я не берусь судить. Но мне кажется, что визуально-аудиальная эстетика будет превалировать. Литература более интимна. Ты не можешь группой, условно говоря, читать книгу.
— Но пытаются делать сейчас книжные клубы, воскрешать...
— Но все равно это будет обсуждение. А процесс чтения индивидуальный: ты берешь книжку и читаешь, у тебя работает воображение. Но трудно бороться и сопротивляться общей тенденции.
— Но как Вы считаете, некоторые сейчас критикуют молодежь за то, она не читает. Говорят, что воображение не будет развиваться. Они привыкают к тому, что у них визуальный контент, они смотрят фильмы, и уже сами ничего для себя не представляют, ждут, когда покажут картинку.
— Трудно же так говорить, не зная психологических и психических результатов, экспериментов. Откуда мы знаем, как оно развивается? Каким образом рождается воображение, насколько оно нужно, востребовано? А вообще, зачем воображение-то? Без него, что, жить нельзя?
— Наверное, все-таки нельзя.
— А почему нельзя? Зачем нам оно?
— Воображение — это же необязательно именно о высоких материях. Даже банально: ты подходишь к плите, ты можешь вообразить, как ты положил руку на эту плиту и ошпарился, а так ты не подойдешь, не положишь руку, потому что заранее вообразил последствия.
— Один раз ты обжегся, и уже тебе не надо никакого воображения. (Смеются.) Опыт, понимаете, опыт. Так что я не знаю. Ну, конечно, оно хорошо, это воображение, потому что ты можешь переключиться, выйти из себя. В литературе ты все равно выходишь из своей оболочки. Оболочка, твоя телесность тебя тяготит. Отсюда — фантастика, отсюда — утопия или антиутопия. Неважно. Ты хочешь выйти за свои пределы, постичь другие измерения, пространства. Литература дает эту возможность, потому что когда ты другую жизнь проживаешь, ты переключаешься. Литература нужна для такого переключения. Просто она более трудоемкая, чем та же музыка, чем то же визуальное. Она требует затрат — временных, физических. Чтение книги — трудоемкое занятие. А сейчас люди очень не любят этого, люди устают, это не нужно. Так что сомнительно будущее литературы. Может быть, она просто другой будет, может, она будет в каких-то картинках.
— Может, закачиваться будет сразу в мозг?
— Может быть, и закачиваться в мозг будет. Я бы не отказалась, чтобы все вот эти мои нечитанные книги… Я их же уже не прочитаю, а вот, смотрите какое счастье, они в меня закачиваются. Отлично! Отлично! Вот на этой веселой ноте мы и завершим.
— Да, пожалуй, завершим. Спасибо Вам!
— Может, закачиваться будет сразу в мозг?
— Может быть, и закачиваться в мозг будет. Я бы не отказалась, чтобы все вот эти мои нечитанные книги… Я их же уже не прочитаю, а вот, смотрите какое счастье, они в меня закачиваются. Отлично! Отлично! Вот на этой веселой ноте мы и завершим.
— Да, пожалуй, завершим. Спасибо Вам!
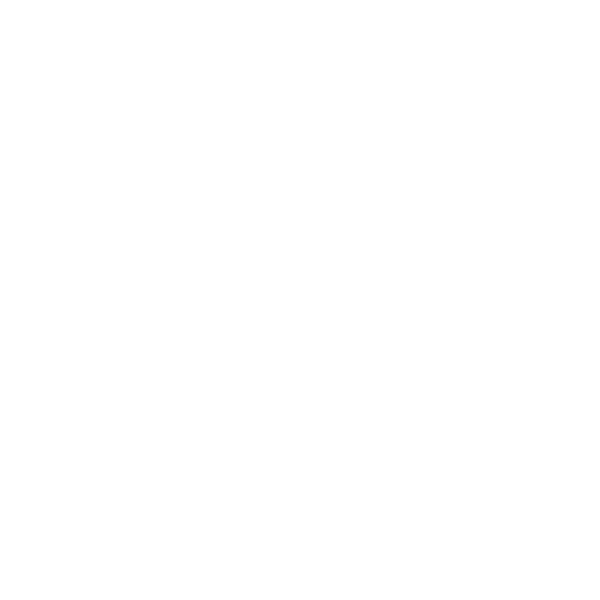
Ищите нас ВКонтакте!
Больше интересных статей тут!
Больше интересных статей тут!
Интервьюер
Виктория Хруслова
Виктория Хруслова
Расшифровка
Дарья Фролова
Дарья Фролова
Верстка и корректура
Анастасия Данилевич
Ганна Филатова
Анастасия Данилевич
Ганна Филатова
Subscribe
PhilFace. Филфак МГУ в лицах
